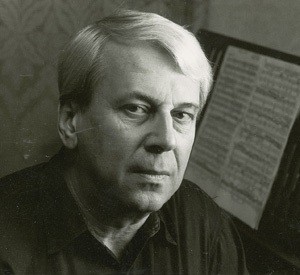 В 1960-1970-х гг. Борис Иванович Тищенко довольно часто обращался к жанру инструментального концерта. В этот период родились такие сочинения, как Концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для арфы с оркестром, два виолончельных концерта и другие. Важное место занимает среди них Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра. В этом произведении соединяются две традиции – старинная форма Concerto grosso и двойной концерт. Произведение для ансамбля солистов отодвигает на второй план принцип безраздельного господства солиста-виртуоза – два инструмента находятся на равных. Струнный оркестр тоже выступает здесь не как аккомпаниатор, а как «равноправный партнер» солистов, что вполне соответствует жанровой природе концерта – состязание, в которое вступает солист с оркестром, а в данном случае еще и два солиста между собой.
В 1960-1970-х гг. Борис Иванович Тищенко довольно часто обращался к жанру инструментального концерта. В этот период родились такие сочинения, как Концерт для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для арфы с оркестром, два виолончельных концерта и другие. Важное место занимает среди них Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра. В этом произведении соединяются две традиции – старинная форма Concerto grosso и двойной концерт. Произведение для ансамбля солистов отодвигает на второй план принцип безраздельного господства солиста-виртуоза – два инструмента находятся на равных. Струнный оркестр тоже выступает здесь не как аккомпаниатор, а как «равноправный партнер» солистов, что вполне соответствует жанровой природе концерта – состязание, в которое вступает солист с оркестром, а в данном случае еще и два солиста между собой.
Создавая концерт для двух солистов с оркестром, композитор обратился к наиболее раннему варианту формы Concerto grosso – речь идет о цикле многочастном: Концерт Тищенко состоит из пяти частей. В нем можно усмотреть нечто «театральное» с ярко выраженной завязкой, развитием действия и развязкой – но, как метко заметил советский музыковед Михаил Евгеньевич Тараканов, старинные Concerto grosso нередко напоминали комедию дель арте с ее веселой суматохой, у современных же композиторов эта форма чаще служит воплощению сложных психологических драм. Именно так обстоит дело в Концерте Тищенко, в котором театральность причудливо сочетается с принципом монологизации. Общий тон произведения напоминает искреннюю, взволнованную исповедь. Интонационное становление тем происходит постепенно, музыкальная ткань сплетается из множества мелодических линий, имеющих изначально монодийную природу. Вместе с тем, в произведении Тищенко можно обнаружить черты, заставляющие вспомнить о концертах эпохи барокко: моторность (в особенности во второй и третьей частях), музыкальные украшения-форшлаги.
Распределение «ролей» между исполнителями тоже перекликается со старинными Concerto grosso, но трактуется оригинально. В первой части «состязания» как такового еще не происходит – участники исполнения не столько «сталкиваются» друг с другом, сколько постепенно подключаются, при этом композитор стремится скорее к непрерывному развитию, чем к традиционному для старинных концертов контрастному сопоставлению tutti и solo. Скерциозные вторая и третьи части напоминают некую «пантомиму», в которой оба солиста и струнные выступают в качестве равноправных «действующих лиц». Четвертая часть – это хорал, исполненный глубокой трагедийности. В финале возвращается музыкальный материал предыдущих частей, прежде всего – второй, однако здесь он утрачивает свое «механистическое» начало, приобретая теплоту человеческих интонаций – игровое начало объединяется с лирическим.
Присмотримся же более пристально к каждой из частей Концерта Тищенко. Часть первая – Lento rubato – открывается проникновенным сольным «высказыванием» флейты. Свободное развертывание напевной мелодии с исключительно гибким ритмическим рисунком создает впечатление импровизационности. Оркестр подключается постепенно, словно «оттесняя» флейту к верхним границам диапазона – элегическая задумчивость сменяется трагической экспрессией. Завершается первая часть скорбным хоралом трех солирующих виолончелей, к которому присоединяются контрабасы и альты – в их партии звучат отголоски флейтовой темы.
Во второй части – Allegretto – впервые появляется фортепиано, поначалу на очень скромных ролях в дуэте с флейтой: на протяжении четырех десятков тактов оно лишь равномерно пульсирует на одном звуке. Флейта противопоставляет этому «механическому» звучанию свои живые, свободные фигурации – и это контрастное сочетание порождает ощущение тревоги. В конце концов, фортепиано, словно «устав» от роли метронома, «взрывается» пассажами – и начинается «игра» с тематическим материалом, перебрасываемым от инструмента к инструменту, пульсация же переходит в оркестр. Смятение нарастает, первая кульминация резко обрывается, и музыкальное развитие на новом витке окрашивается в мрачные тона. Во второй кульминации оба солиста отчаянно скандируют в высоком регистре. После этого музыкальная ткань словно «рассыпается» в оркестровых пассажах, а робкая попытка флейты вернуться к первоначальной теме бессильно обрывается.
В третьей части – Allegro – присутствуют черты, которыми отмечена вторая: моторность, оттенок танцевальности, диалогичность, множество пассажей – но все это словно отражено в кривом зеркале: грохот кластеров у фортепиано, нарочитая пошлость ритма фокстрота, кажущаяся беспорядочность в смене тематического материала – все это создает ощущение хаоса. Но постепенно этот хаос подчиняется жесткой токкатной теме.
Этому разгулу разрушительного начала противопоставляется трагическая четвертая часть – Lento rubato. В скорбном виолончельном трехголосии мелодические линии словно пытаются прийти к гармонии – но между ними возникают резкие созвучия. Подключаются другие инструменты оркестра – многоголосная ткань, сплетающаяся из кантиленных мелодических линий, постепенно усложняется. Солисты в четвертой части не участвуют.
Стихия пульсации возвращается в финале, в ее «жесткий каркас» вписывается новый вариант флейтовой темы из первой части. Постепенно присоединяются гаммаобразные пассажи струнных. Дуэт солистов напоминает вторую часть, но теперь в нем звучит не тревога, а затаенная трепетность, «разгула темных сил» не возникает – скерциозность остается просветленной. К концу четвертой части звучность постепенно угасает – это воспринимается как «примирение».
Нельзя не согласиться с музыковедом Таракановым: «Не стремление уклониться от жгучих проблем современного мира, … а отражение сложного, богатого духовного мира человека наших дней – вот основная тема инструментальной драмы Тищенко».

Пока нет комментариев