Вот и завершился очередной Московский международный кинофестиваль. Безусловно, многим он запомнится тем, что в его жюри председательствовала живая легенда авторского кино, южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук (ссылка1, ссылка2, ссылка3, ссылка4 ). Но и в самой программе также нашлось, на что посмотреть. Как недавно стало известно, жюри ММКФ присудило главный приз, Казахской ленте «Тренинг личностного роста». Но «Музыкальные сезоны» не пропустили ни одного из фестивальных дней, и тщательно анализируя увиденное, составили свое мнение о главных пунктах программы, которое и предлагаем вашему вниманию.
- «Панцирь и плоть»

Программа ММКФ традиционно не только знакомит зрителей с достижениями локальных кинематографий, но и отдает дань классике – на этот раз, внимания организаторов удостоились француз Мишель Девиль и сразу несколько итальянских фильмов эпохи «свинцового кино».
И если говорить о том, какой фильм, наиболее удачно интегрировал модусы классического подхода в современную стилистику, то это конечно «Панцирь и плоть» японского режиссёра Исаму Хираябаяси.
Несмотря на солидный стаж, этот его дебют в полном метре – до этого, он 17 лет занимался коротким метром, неторопливо готовя свой opus magnum. «Панцирь и плоть» — это фильм-размышление о жизни и смерти, одновременно отсылающий зрителя к эстетике фильмов Ясудзиро Одзу и формату музейных видео-инсталляций.
На протяжении 2,5 часов, перед нами будет раскрываться масштабное полотно, состоящее из миниатюрных и не очень зарисовок, связанных между собой, как 60 лапок многоножки, в основном локусом: почти все действующие лица проживают в капсульном отеле. За стойкой ресепшена здесь работают двое друзей детства: Нитобе и Сакамоте.
Нитобе души не чает в насекомых и проводит дни за чтением книги об устройстве космоса. Сакамоте когда-то пыталась покончить с собой целых пять раз. Они готовы обсуждать любые темы, и всегда находят в них лазейку, через которую выходят за узкие рамки видимой реальности.
Помимо этих персонажей, мы познакомимся с сотрудниками лаборатории, изучающих насекомых, для размножения которых не нужны самцы, странными посетителями местной сауны, финской девушкой, потерявшей ребенка, плюшевыми насекомыми, склонными к диалектике, и многими, многими другими.

Режиссёр разбивает главные истории побочными новеллами, некоторые из которых состоят из сюрреалистических образов, другие, наоборот, основаны на диалогах, подчеркнуто жизненны. Он разбивает эти новеллы на несколько монтажных склеек и разбрасывает их по хронометражу. Пространство фильма не сквозное, и рефрены режиссёр использует только на уровне топосов и поэзиса.
Метафорой режиссёрского видения можно назвать фасеточное зрение стрекозы: наблюдая фрагменты, и не имея права наложить их один на другой, мы, лишь благодаря некоторым преимуществом перед этим насекомым, можем воспринимать фильм как пёструю мозаику. Как признаётся режиссёр, в своем фильме он пытался выразить краткосрочность человеческого бытия, и вечность, по сравнению с ним, смерти.
Но интерпретации здесь возможны самые разные – более того, манера повествования их предполагает. Например, в какой-то момент, на основе увиденного, начинает казаться, что человечество достигло отметки в своем развитии, когда оно рискует утратить своё базовое эволюционное преимущество – то есть, сознательный подход к размножению в процессе многоступенчатой организации быта.
И тогда, мы должны были бы обратиться к неким природным универсалиям, какими, конечно же, являются насекомые, чтобы обновить свою собственную морфологию. И, кажется, этот процесс уже происходит, просто для того, чтобы заметить такое, не подойдет ни микроскоп, ни телескоп – только фильм.
- «Коко-ди коко-да»
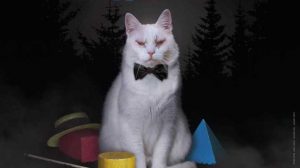
Одна из самых выразительных и ярко детализированных картин фестиваля. Этот фильм можно классифицировать по-разному: как психоделический хоррор на тему детских кошмаров, так и как превосходный образчик традиции «Сцен из супружеской жизни», объясняющийся на языке символов психодрамы.
Преамбула предельно кратка и тут же обозначает макабрическое и гротескное настроение фильма. Визит на странноватый местный праздник, оборачивается для молодой семьи трагедией: скоропостижно и беспричинно умирает их 8-летняя дочка.
Здесь режиссёр делает паузу, и на несколько минут разбивает повествование мрачной анимационной интерлюдией, обыгрывающей манеру детского рисунка, и аллегорически описывающей родительское горе.
История продолжается через три года: супруги едут на пикник в лесу, и разбивают на полянке палатку. Затем начинается уже самое странное. Стоило только нашим шведам устроиться на боковую, как на них нападает аляповатая и жуткая компания из то ли маньяков, то ли сказочных героев из жестокого скандинавского фольклора, то ли из обезумевших циркачей. Героев убивают, но тут сюжет начинается заново, с момента возведения палатки, а произошедшее оказывается сном мужа.

Так запускается цикл, и какое-то время карусель пробуждений, ужаса и попыток спастись, кружит голову, не давая никаких намёков на ответ. Но в самый нужный момент, случается инверсия, и, оборвав цикл, режиссёр уверенно выходит в сюр-пространство, руководя театром химер и фантазмов с пугающей убедительностью. Действо завершается абсолютно логично, и на выходе мы имеем психологически выверенную систему координат, которую можно раскладывать в контексте Юнгианского и Пропповского подходов, и при этом, художественно безошибочное.
Особенно следует отметить точечное мастерство режиссера, у которого было минимум времени, например, чтобы обозначить характеры героев, но ему это удаётся, благодаря считанным, но убедительным диалогам.
- «Альфа: право убивать»

Филиппинец Брийанте Мендоса – бывалый гость на самых главных мировых фестивалях. С некоторых пор, он перестал снимать коммерческое кино и сфокусировался лишь на том, что занимает его самого.
Как это обычно и бывает с филиппинскими режиссёрами, он озабочен многочисленными бедами родной страны, и умеет рассказать о них так, что любой сможет ощутить их присутствие прямо за окнами.
В данном случае, Мендоса решил поведать крайне натуралистическую и, как он утверждает, основанную на реальных свидетельствах историю, о коррупции в наркоотделе местной полиции.
Фильм начинается с национального гимна, пару минут раскачивается, и сразу же затягивает лихо снятой сценой спецоперации, в ходе которой слуги закона заставляют местного наркобосса и его подельников хлебнуть фунт лиха.
Но все оказывается не так просто. Самый честный на вид коп, расхаживающий в рубашке одной известной фирмы, оказывается негодяем. В ходе операции исчезает чемоданчик, набитый настоящей «белой смертью», — его послушно уносит информатор, обычный филиппинский парень, обязанный негодяю временной свободой.
После этого, Мендоса слегка обманывает зрителя. Мы ожидаем продолжения криминальной интриги, и нарастающего напряжения, ожидаемого, когда открывается пропажа чемоданчика. Однако, вместо этого, фильм работает на погружение в местный колорит, и эманацию сути существования двух людей, находящихся по две стороны баррикад.
Фильм, как верно отметил кто-то из кинокритиков, затягивает в себя и гипнотизирует. Режиссёр, не стремясь романтизировать криминальные реалии небогатого города, подает их так, что взгляд не оторвать.
Параллельно он вводит некоторые символы, работающие сначала на сюжет, а затем уже сами на себя, как яркие и образные иллюстрации образа города. Мимоходом мы узнаем, что местные наркодилеры прячут наркотики в плоды манго, в подгузники своих детей, и (это уже все-таки романтика), привязывают товар к лапкам почтовых голубей.
Постепенно обретают рельефность и портреты героев. Американский образ жизни копа подчеркивается двуязычием местной полиции и прессы, а также, местом «сходки» — прямиком у католической церкви.
Мысль режиссёра ясна – Филиппины и подобные им страны третьего мира живут по кальке американской системы, в которых людей убивают на улицах, в них гетто соседствует с голливудскими холмами, как две различные экосистемы. Только в случае Филиппин, у организаторов систем, нет ни таланта, ни смекалки, чтобы организовать все «по уму».
Здесь нет захватывающих дух масштабов, а-ля «Во все тяжкие», или «Лицо со шрамом». Так, например главный наркобарон здесь бегает в майке-алкашке и обретается не в шикарном особняке, а в притоне. Но самое занятное, это конечно то, как в истории Мендосы безалаберно действуют, как полицейские, так и преступники. Они бросают улики на месте, воруют доказательства прямо из-под носа у коллег, теряют наркотики на ровном месте и т.д. и т.п.

Так и проявляется «недосистемность» подобных экзотических реалий, где город и здания – это мираж, а настоящей средой обитания людей является природа, хаос джунглей, в которых главное смотреть за тем, чтобы никто не набросился из-за ближайшего баобаба.
Так что и той дистанции, что, как в Америке, разделяет бандитов и звезды на алее славы, здесь нет. Поэтому ненадежен тот лоск обывательского существования, которым окружает себя полицейский, и столь же карикатурны «открытки» его семейного счастья, на одной из которых, его, например, выбирают президентом родительского комитета в школе.
И он сам сознает это – от того та смутная тревога, неуверенность на лице полицейского, причину которой мы поймем только в концовке.
Бриайнте Мендоса снял фильм, в котором нет недосказанности. Единственный трюк здесь – подмена жанровой оболочки, и нарушение уловок криминального детектива, проведенное через весь сюжет. Нет здесь и формальных изысков, присущих арт-хаусу. Камера филиппинца всегда выхватывает нужную и самую яркую деталь. Монтаж фильма динамичен и, в конце концов, фильм все-таки соответствует упомянутому жанру, хотя-бы по-своему темпоритму.
Самое же интересное – это фатализм, опять же заметный и во взглядах героев и организующий структуру «Права убивать». Мендоса использует начальную сцену как коллапс, а затем наблюдает, за тем, как все, что имело к нему отношение – наркотики и деньги из чемодана, жизни полицейского и информатора, дематериализуются, наглядно давая понять, что право убивать это не привилегия кого-то одного, а данность «здесь и сейчас» — константа образа жизни.

Пока нет комментариев