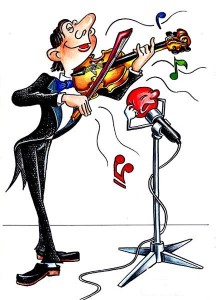
Рисунок Андрея Саенко с сайта caricatura.ru
«Участник под номером три легко обходит труднейший пассаж, лихо преодолевает частокол терций, взлетает по трезвучию и… лажа! Какая лажа, дорогие любители музыки! Промахнуться в последнюю ноту!..» Эта уже ставшая расхожей шутка о музыкальных конкурсах, к сожалению, трудно реализуема в действительности. К сожалению – потому что конкурсы виртуозов уже давно напоминают спортивные состязания, а спорт без яркого комментатора широкой публике не интересен. С другой стороны, при построении здания из звуков, пусть даже это не храм, но многоквартирник, его целостность тут же утрачивается при возникновении посторонних шумов. Так что все подобные комментарии лишь мелькают в голове скучающего члена жюри, который уже все давно просчитал, а впереди еще 29 минут исполнения.
Ни один великий скрипач XX века, игрой которых можно насладиться в интернете (если удастся пробиться через толпы современных китайских скрипачей с первых страниц поиска), не имеет шансов на современном крупном международном конкурсе с призовым фондом более 20 000 евро. Величие духа и мощь экспрессии, которые они предлагают слушателю, не только плохо ложатся в систему конкурсных оценок, но, увы, вообще в не топе современных культурных запросов. В то время как не стопроцентно точная интонация, которой грешат многие старые мастера, сразу же укажет им место вне состава участников финального тура. К тому же, кто из них брал мастер-классы у членов жюри??
История скрипичных международных конкурсов, как мы их знаем сегодня, началась в первой половине XX века. 1935-й, год столетия Г.Венявского, ознаменовался конкурсом в его честь, первое место на котором заняла Ж.Невё, второе – Д.Ойстрах. В 1937 впервые под эгидой страстной любительницы искусств бельгийской королевы Елизаветы был проведен конкурс имени Э.Изаи. Первое место на нем занял Д.Ойстрах, но уже тогда, на самом первом из славной и долгой череды конкурсов Королевы Елизаветы, как он будет впоследствии в ее честь переименован, ходили слухи о том, что первое место ему «помог» занять А.Ямпольский, член жюри от СССР, «отобравший» победу у Р.Однопозоффа (источник: http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=en&cccpage=news_detail&set_z_news=341)
В наше время индустрия международных конкурсов охватила весь мир. Не так много осталось деревень в Италии, где никогда не проводился никакой музыкальный конкурс. Хотя, если попробовать провести мысленно международный конкурс из самых талантливых корифеев скрипки XX века, мы поймем, что их ранжирование – практически неразрешимая задача. Ранжировать можно подобное, в то время как каждый из них – уникален и единственный в своем роде. Идея ранжирования не пришла и не могла прийти из мира музыки. Это – чисто человеческая идея, бизнес-идея, если хотите, но никак не музыкальная. Каждый музыкант, если он настоящий (вне зависимости от возраста или концертного опыта) – уникален, неповторим и одинаково интересен думающей и чувствующей публике.
И вот он стоит, этот будущий уникум, на хорошей европейской эстраде, а в полутьме зала расположились человек десять членов жюри, совершенно разных по характеру, таланту, изначальной культурной среде (потому что действуют они на данный момент в рамках одной, западноевропейской, для некоторых из них глубинно чуждой). Скрипач знает, что он должен:
А) донести все ноты чисто и качественно или максимально к этому приблизиться в условиях стресса,
Б) Выполнить все пожелания автора, донося стилевые особенности музыки, сохраняя некое подобие музыкального исполнения, и
В) никого не раздражить в комиссии излишней индивидуальностью.
И.Урьяш: «задача жюри на 1 туре – выявить и обезвредить талант»
Существует тактика прохождения по конкурсу, когда на первом туре твоя задача – просто сыграть в серединочке, переползти отбор, а не поражать талантом – ведь талант воздействует, а значит, может раздражать, – а вот к финалу уже раскрываться. Существует целая когорта лауреатов, которых роднит крепкое владение инструментом, крепкие нервы, способные противостоять стрессу (избыточная чувствительность к оттенкам музыкальной фразы, которая и делает исполнение по-настоящему интересным, является полной противоположностью данного качества), усредненно-привлекательная внешность. Существует достаточно многочисленная группа «записных» членов жюри, периодически появляющихся на разных конкурсах, есть также и люди, «смотрящие» за каким-либо определенным конкурсом, являясь, например, бессменными председателями жюри.
Сквозь это механическое сито обязаны просеяться сегодня сотни лучших студентов мировых консерваторий, основная задача которых – научиться играть согласно многочисленным требованиям, которые члены жюри доносят до них на мастер-классах.
Мастер-класс – ворота на конкурс. Ибо где же мудрость о том единственном способе, которым дозволяется играть Баха, достигнет ушей будущего конкурсанта, как не на мастер-классе члена жюри? Мастер-классы – это бизнес, по суммарному объему оборота средств наверняка превышающий сами конкурсы. Они также успешно служат площадками обмена опытом, современными стилевыми и культурными традициями, технологическими новшествами (если такое понятие применимо к инструменту с 400-летней историей) и, конечно же, взаимными обязательствами. Вспоминая некогда знаменитую миниатюру А.Райкина «Дефицит» («ми его нэ лубим, он тоже купил!!»), понятно, что задачей «жюристов» на мастер-классе является грамотное туннелирование будущих участников. Если ты у меня не поучился, а первое место все-таки получил, кто ко мне тогда поедет на следующий год, ведь это весьма недешево!
Что же движет самим конкурсантом? В первую очередь, амбиции, начиная, собственно, с родительских. Вот Маша уже лауреат (междусобойчика в близлежащей деревне, но написано-то про него как про международный, так как на прошлом были два белоруса и один украинец), и Саша тоже, а моя, что, хуже?? За счет родителей идет оплата детских и юношеских конкурсов, иногда немалая, если учесть подготовку, билеты, проживание и взнос. В то время как призового сколько-нибудь серьезного фонда в них нет – и это к счастью, потому что, как всегда и происходит, если из цепочки вынуть деньги, все становится чище и справедливее (насколько может быть справедливым ранжирование неранжируемого).
Конкурс постепенно стал общепринятой нормой. Сильный ученик – к какому конкурсу готовишься? Ни к какому? (недоумение) А почему? Конкурс – часть жизни продвинутого музыканта возраста от 10 до 25 лет и лишь немногим счастливцам удается ее в какой-либо степени обойти. Например, в портфолио замечательной скрипачки c хорошо разворачивающейся карьерой Л.Батиашвили (Грузия-Германия) всего лишь одно второе место на конкурсе Сибелиуса, легко отделалась. Видимо, ее незаурядная харизма и талант были замечены сразу. Могучий Валерий Соколов – также обладатель лишь одного приза (зато это Гран-при конкурса Энеску), что тоже никак мешает его карьере. Наиболее яркий во всех смыслах пример – Патриция Копачинская. Будучи личностью и талантом на грани маргинальности, эта исполнительница, по понятным причинам, не вписалась ни в один крупный конкурс. Хотя и в стандартную колею европейской карьеры она тоже не вполне вписывается, хотя является совершенно необычным и, если так можно выразиться, высокоресурсным музыкальным явлением.
На самый интересный вопрос – кем эти действительно прекрасные исполнители были замечены и продвинуты на сцену, у автора ответа нет, хотя он вполне отдает себе отчет в его кардинальной важности. Это именно та информация, которая никогда не будет раскрыта широкой публике. Но в любом случае, это единичные исключения. Все остальные вынуждены были пройти через конкурсную мясорубку.
Музыкальный конкурс – прокрустово ложе концертного бизнеса. Хорошо, что это – лишь красивая фраза, которая, как и все красивые фразы, закрывает максимум половину действительности. Во-первых, конкурсный и концертный бизнесы вовсе не настолько совпадают. Первая задача концертного агентства – обеспечить кассу. В этом минус, так как массовый слушатель не настолько тонко настроен на оттенки качества и выразительности исполнения (отсюда печально известное выражение «публика-дура») и до определенной степени готов платить за то, что дают. Но в этом и плюс: эмоционально-заряженное исполнение[1] понравится любому посетителю концертов, в то время как бессмысленные качественные побегушки, в силу специфики системы конкурсных оценок способные обеспечить первые места, обычному слушателю нравятся не дольше половины первого отделения. Поэтому предоставленный лауреату концертный тур в качестве части награды рискует остаться единственным серьезным туром в его карьере, если его воспитывали как бегуна, а не как музыканта.
И, наконец, самое главное. Фраза «талант всегда пробьется», дополненная пословицей «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» – работает! Так или иначе, в первую очередь или нет, талантливый молодой человек, честно и много трудящийся, впитывающий знания и культуру, имеет шанс пробиться на сцену. Потому что большинство членов жюри – действительно видные музыканты, и они сразу же перестанут зевать, услышав настоящее. Да, возможно, этот конкурс уже просчитан и неожиданно возникший талант не вписывается в столбец победителей, но в его адрес не будет недостатка в ласковых словах (с приглашениями на последующий мастер-класс со всеми вытекающими успехами).
Тут самое время поднять вопрос о справедливости, которая так и непонятно, торжествует или нет. Ведь это самый больной вопрос. Очень редко, когда конкурсант внутренне согласен с негативным для него решением жюри. Он бежит дергать членов жюри за рукав (такая возможность предусмотрена и благосклонно предлагается почти на всех конкурсах) и, чаще всего, слышит общие, ничего не говорящие ему фразы объяснений. Он тяжело работал долгое время, возможно, удачно для себя сыграл и примириться с мыслью о поражении ему крайне трудно. Для таких у меня есть предложение: не ездить на конкурсы. Конкурс – это всегда лотерея. Состав участников, их подготовленность, их вдохновение, состояние членов жюри, вариативность собственного игрового состояния – на все это участник влиять не может (даже на свое состояние – лишь до известной степени, владение собой приходит к большинству с многолетним успешным опытом). Поэтому отношение к конкурсу должно быть: дали – спасибо, не дали – спасибо. Почему не дали? – А, слишком темпераментно играл – Хорошо, спасибо. И готовимся на следующий. Кто так не может, тот теряет здоровье.
Потому что справедливости, как известно, в мире нет. И на конкурсах ее сложно ожидать, так как ранжируется, как уже упоминалось, неранжируемое, и трудно понять, от чего отталкиваться, пытаясь привести к общему знаменателю столь различное. Если же в жюри случился педагог участника, с которым он занимался, скажем, года два, регулярно устанавливая на уроке раппорт (ибо музыкальные занятия – не передача некоей исчисляемой информации, но установление глубокой связи с учеником), то в этом случае об объективной оценке даже речи идти не может, в случае самой наиострейшей совести такового члена жюри. Его восприятие игры ученика неизбежно искажено сопереживанием. Автор, например, безошибочно угадывает, кто в зале является педагогом стоящего на сцене студента, по весьма заметным привычным сопереживаниям. Педагог узнает игру ученика даже из-за ширмы. Хорошего педагога всегда отличает тонкий слух и выраженная способность к анализу, своего узнать – не проблема. Автор, например, пытался в аналогичном случае отталкиваться от силы суммарного впечатления, производимого участником, в конечном итоге, это будущий артист.
Конечно, проблема несправедливости постоянно находится не только в фокусе обсуждения (известный сайт Н.Лебрехта slippeddisk постоянно публикует весьма интересные материалы на этот счет), но иногда заходит с неожиданной стороны. Вот только недавно известный дирижер Фабио Луизи отказался от места в жюри известнейшего конкурса (55-й конкурс Premio Paganini, Генуя), обосновав свое решение подозрениями в необъективном суждении. Трудно предположить, как это сказалось на результатах конкурса, его победитель Кевин Жу вполне выполняет «санитарную норму» своего уровня, участников же 1-го тура слышали, как обычно, только члены жюри и небольшое количество публики.
Очень смелый и гораздо более действенный шаг предпринял видный скрипач и дирижер Николай Цнайдер, председатель жюри известного европейского конкурса имени Карла Нильсена, конкурса с долгой историей и, в целом, с хорошей репутацией. Во-первых, в его жюри 2019 не будет педагогов вообще. Во-вторых, все оценки жюри после каждого тура будут публиковаться. В-третьих, на первом туре жюри не будут выданы биографии конкурсантов и членам его будет рекомендовано не изучать эти биографии в свободное время. И, наконец, прослушивания 1-го тура будут разбиты на два дня, в первый игра будет анонимной и в случайном порядке, во второй жюри сможет видеть конкурсантов, которые опять будут играть в случайном порядке. Оценки выставляются за каждое выступление и открыто публикуются. Таким образом Н.Цнайдер надеется достичь беспристрастности жюри и честности конкурса в целом. http://slippedisc.com/2018/07/just-in-a-major-competition-bans-teachers-from-jury/
В смелости такого решения нет сомнений: Цнайдер дает хорошую пощечину сразу всей сложившейся скрипичной конкурсной «мафии» и создает опасный для нее прецедент. До 2019 года еще есть время, и автору крайне интересно, что же в итоге будет происходить на этом экспериментальном конкурсе. Автор уверен, что в настоящее время идет тихая работа со стороны сообщества педагогов-«жюристов» по отговариванию своих студентов от посещения этого конкурса как «ненадежного». А у кого лучшие студенты? У тех педагогов, которые способны «обеспечить» конкурсную карьеру. Поэтому ситуация полной справедливости вполне может привести к достаточно бледному общему уровню конкурса, что неизбежно вызовет недовольство устроителей. История знает пример, когда яростная заказная борьба с коррупцией оставила небольшую гордую страну практически без экономики: так же и конкурс, во главу угла ставящий справедливость и объективность оценок, может упустить главное – яркую игру участников.
Тот факт, что многие крупные конкурсы выкладывают в сеть все свои видеоархивы с игрой конкурсантов (например, можно зайти на cmireb.be и долго наслаждаться замечательной игрой участников «Елизаветы», также очень много материалов крупного конкурса имени Иоахима выложено в сеть, и пр, и пр.), говорит автору об открытых намерениях устроителей. Но недоуменные ахи мировой аудитории никак не мешают членам жюри на этих конкурсах соблюдать свои интересы.
Подводя итоги, хочется недоуменно развести руками. Понятно, что конкурсы в первую очередь выгодны устроителям и членам жюри, участники же оказываются втянуты в нервную и часто безвыигрышную ситуацию, причем за свой счет. С другой стороны, крупный международный конкурс – это всегда праздник музыкальной жизни, парад прекрасной и часто весьма талантливой молодежи, которая, в общем-то, знает, ради чего рискует – и бывает, что выигрывает.
Какие правила ни придумывай, в жизнь проводят их люди, со свойственной им смесью предвзятости и объективности, стремления к выгоде и заботой о своем реноме, то есть, со всем тем, что называется «человеческий фактор». В конечном итоге, что является предметом искусства, как не этот пресловутый человеческий фактор? Вот пусть сам с собой и разбирается, а автор пойдет на youtube за записью рекомендованного ему Violin Channel очередного победителя.
[1] Под «эмоционально заряженным выступлением» автор вовсе не имеет в виду гримасы, танцы или обезьяньи прыжки на сцене. Музыкант должен выразить эмоцию, то есть, грусть, радость, торжество, печаль, и прочее, а вовсе не показать себя рабом своего темперамента.
Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев