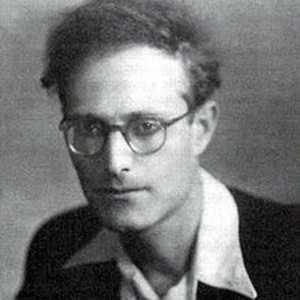 «Композитор, которому чужда радость экспериментирования», – такой далеко не лестной характеристики удостоился Александр Лазаревич Локшин от немецкого музыковеда Доротеи Ределеннинг. Локшина действительно нельзя отнести к числу авангардистов, ему была чужда техника додекафонии – и это могло вызывать пренебрежительное отношение к его музыке на Западе, на родине же его зачастую встречали в штыки по причинам идеологического характера, и это привело к тому, что творчество Локшина сегодня в меньшей степени известно широкой публике, чем творчество многих других отечественных композиторов ХХ столетия. Между тем, Локшин – талантливый и самобытный композитор. Не отказываясь от тональной гармонии, он обновил ее язык и внес немало нового в музыкальное воплощение поэтических текстов.
«Композитор, которому чужда радость экспериментирования», – такой далеко не лестной характеристики удостоился Александр Лазаревич Локшин от немецкого музыковеда Доротеи Ределеннинг. Локшина действительно нельзя отнести к числу авангардистов, ему была чужда техника додекафонии – и это могло вызывать пренебрежительное отношение к его музыке на Западе, на родине же его зачастую встречали в штыки по причинам идеологического характера, и это привело к тому, что творчество Локшина сегодня в меньшей степени известно широкой публике, чем творчество многих других отечественных композиторов ХХ столетия. Между тем, Локшин – талантливый и самобытный композитор. Не отказываясь от тональной гармонии, он обновил ее язык и внес немало нового в музыкальное воплощение поэтических текстов.
Локшин появился на свет в Бийске. Его отец работал счетоводом, мать – акушеркой, первым музыкантом в семье стал Александр, с шестилетнего возраста обучавшийся фортепианной игре в музыкальной школе. Учеба была продолжена в Новосибирске, куда семейство переехало, когда будущему композитору было десять лет. Здесь он обучался в образцовой общеобразовательной школе для одаренных детей, одновременно посещая музыкальную школу.
Дальнейшая судьба Локшина выглядит стремительным взлетом: получив в Новосибирске рекомендацию как одаренный музыкант, в шестнадцатилетнем возрасте он отправился в Москву, где был принят сразу на второй курс училища. Его талант по достоинству оценили Генрих Густавович Нейгауз и Николай Яковлевич Мясковский, и уже через год его приняли в консерваторию (тоже сразу на второй курс), где он стал учеником Мясковского. В 1941 г., еще будучи студентом, Александр Лазаревич стал членом Союза композиторов. Но в скором времени судьба сделала крутой поворот: молодой композитор нередко позволял себе резкую критику в адрес коллег, создающих «политически выверенные» произведения, и в довершение всего для своего первого крупного вокально-симфонического сочинения вопреки советам преподавателя избрал стихи, которые абсолютно не соответствовали господствовавшей идеологии – «Цветы зла» Шарля Бодлера. Последовала самая низкая оценка и отчисление.
С началом войны он вступил в ополчение, но вскоре его комиссовали из-за проблем со здоровьем. Локшин возвратился в Новосибирск, где он подрабатывал пианистом в клубе, но продолжал писать музыку – работал над вокально-симфонической поэмой «Жди меня». В 1943 г. он встретился с Евгением Александровичем Мравинским, прибывшим на гастроли в Новосибирск. Знаменитому дирижеру понравилось новое сочинение Локшина, он включил его в репертуар. Произведение было исполнено и высоко оценено критиками (в частности, Иваном Ивановичем Соллертинским), и Локшин получил возможность возвратиться в столицу и окончить консерваторию. Завершив обучение, Локшин остался в консерватории в качестве педагога. Он знакомил студентов с различными произведениями – в том числе и теми, которые не одобрялись властями в ту эпоху, что привело к увольнению в 1948 г., композитор даже опасался ареста.
Дальнейшая жизнь Александра Лазаревича была тяжелой. Он не имел возможности найти постоянную работу и был отвергнут многими друзьями, поскольку в музыкальной среде распространились слухи, что Вера Ивановна Прохорова (близкая подруга Святослава Теофиловича Рихтера) была арестована по его доносу. Слухи не имели под собой оснований, но Локшин стал изгоем, лишь немногие друзья остались верными ему (в их числе – пианистка Мария Вениаминовна Юдина).
В последующие годы были написаны наиболее значительные произведения Локшина – три квинтета, несколько кантат и оркестровых сюит, а также одиннадцать симфоний, большинство которых представляет собой вокально-симфонические сочинения. Круг поэтических источников, которые избирал Локшин, весьма широк – Уильям Шекспир, Редьярд Киплинг, Александр Блок, Анна Ахматова, средневековая японская поэзия. В выборе текстов он руководствовался исключительно собственными эстетическими предпочтениями, а не идеологическими соображениями, и поэтому его сочинениям нелегко было пробиться на сцену. Так, в 1962 г. была запрещена его кантата «Тараканище», поскольку в образе Воробья увидели сатиру на… Хрущева. Весьма красноречива история Симфонии № 9: ее первое исполнение в 1975 г., имевшее большой успех, долго оставалось единственным – в ней звучали стихи поэта Леонида Николаевича Мартынова, не одобрявшиеся в то время («В эту душную ночь я беседовал с Богом» и другие). Через несколько лет рассматривался вопрос о включении ее в программу фестиваля «Московская осень», и сразу после нее прослушивалось сочинение другого композитора. Председательствовавший на этом заседании композитор Юрий Абрамович Левитин заявил в присутствии обоих авторов, что Симфония Локшина – сочинение талантливое, но ненужное, а другое произведение – не талантливое, но нужное, поэтому исполнять будут его, а не Симфонию № 9. Отвергаемые в родной стране, симфонии Локшина исполнялись Штутгарте, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, записывались на грампластинки в ФРГ.
Александр Локшин ушел из жизни в 1987 г.
Копирование запрещено.

Пока нет комментариев