Феномен корейского кинематографа притягивает к себе внимание специалистов и зрителей с конца XX века. Точка отсчета международного успеха – каннский триумф «Олдбоя» в 2003 году. Тогда кому-то могло показаться, что успех этот локального характера. Но все оказалось наоборот – бурный технический прогресс, параллельный культурному (вовсе не редкое совпадение), выдвинул Корею из тени забвения прямиком во флагманы авторского кинематографа. Признание широкой аудитории также не заставило себя ждать. Если десяток лет назад знание правильной транскрипции имени Ким Ки Дука уже выдавало знатока, то теперь неустанный интерес аудитории обеспечивает массовые переводы и его куда менее именитых коллег.
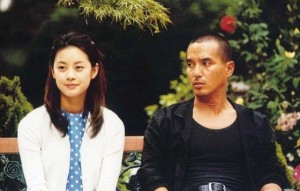
Плохой парень. Ким Ки Дук
Безжалостные и насыщенные изощренными психологизмами детективы о серийных убийцах и полные нефильтрованных сантиментов мелодрамы; боевики, в которых предпочтение отдается холодному оружию и, разумеется, многочисленные мистические фильмы ужасов. Дать ответ на главный вопрос – почему именно Корея – не представляет большого труда.
Кинематография в этой стране находилась в стагнации где-то с начала 70-х годов до начала 90-х. С падением вериг тоталитарного режима подрастающие художники начали впитывать modus operandi бывших под государственным запретом японских и американских мастеров. В киношколах и, главное, просто в кинозалах, наконец-то, развернулась обширная сеть проката. Люди потянулись назад в темные залы. В итоге, в наше время кино в Корее – это важный элемент социально-культурной жизни общества и один из главных способов досуга современного взрослого корейца. Все хорошо и по ту сторону индустрии. Молодые режиссеры стабильно получают проекты и не испытывают никаких проблем с их продвижением, а авторский кинематограф, нисколько не теряя в самобытности, использует жанровые подходы и собирает в прокате серьезную кассу, не задумываясь о цензурных ограничениях.
При этом, как уже упоминалось, страна вырвалась в лидеры рынка современной техники. На первый взгляд, связи тут с искусством никакой. Но стоит только внимательно поизучать интервью корейских режиссеров и приглядеться к метауровням их композиционных приемов, как станет ясно, что древнегреческое «технэ» вернулось в этих фильмах к своему изначальному синтетическому значению, объединяющему ремесленничество и творчество.

Вторжение динозавра. По Джун Хо
Фильмы По Джун Хо, Ким Джи Уна, Пак Чхан Ука и других (кроме Ким Ки Дука) – это тщательнейшим образом продуманные механизмы. Мозг этих ребят работает, как у инженеров. Драматургия у них строится по канонам архитектоники, в которых фильм является в первую очередь прорисованной вручную схемой, где все элементы – суть тела, точки и линии, приведенные в симметрическую гармонию. Эта модель – всегда единое целое, хитроумно приводимое в движение чередой филигранных вмешательств творца.
Иногда просвечивающая анатомия этих фильмических тел приводит в восхищение своей сложностью и красотой, напоминая ожившие рисунки Леонардо, а не бездушную мазню спецэффектами по зеленому экрану. В конце концов, Корея – страна, где из-за долгого простоя все еще живы ориентиры на лучшие образчики авторского кино 60-х (Феллини, Куросава, Бергман) и актуальна рецепция золотой эпохи Голливуда.
Схематичность может быть недостатком, когда ремесленник имеет дело с суррогатным материалом. Но материал в руках корейских режиссеров всегда живой. Окаменевшая оболочка киношных штампов и психологических клише разбивается, как молоточком палеонтолога, и за этими злокачественным опухолями корейский режиссер (о чудо!) всегда находит источник магического эликсира, необходимого для кровопролития по-древнегречески, воскрешения динозавра, или постмодернистской игры в культурные коды.
Так формируеются сделавшие имя корейскому кино непредсказуемость и полижанровость. Эти ребята легко соединяют в одной формуле элементы, взятые из разных «эко-систем», будь то детективный топос, естественнонаучный доклад или газетная заметка. В отличии от окончательно впавшего в деменцию паралогического Голливуда конца 90-х, новое корейское кино действительно ориентировалось на зрителя (а не на навязанные ему представления об интертейнменте), предлагая ему одну новую идею за другой и вытаскивая его из состояния минимального сознания во время просмотра. Понимая, что зрителя надо удивлять, корейский режиссер никогда не забывает о том, что его еще надо и расположить к себе.

Служанка. Пак Чхан Ук
Кинозал не превратишь из гербария в старый добрый анатомический театр жестокости или остранения (кому что больше нравится) одними только формулами. Корейское кино, которое всегда хочет зрителя именно что дефлорировать, знаменито как раз имманентным эмоциональным полем высокой эмпатии. Так что упомянутое чудо, открывшееся корейскому режиссеру за хламом продукции – это старомодная человечность, без которой Феллини и Пазолини остались бы просто формалистами и концептуалистами.
В знаменитом шедевре Нагисы Осимы «Смертная казнь через повешение» корейцы характеризовались, как люди, склонные к грубой, неотрефлексированной чувственности. Но это для японских эстетов 50 лет назад. Сейчас же даже имеющий репутацию на уровне серийного убийцы Ким Ки Дук признается, что характерной чертой корейского, и его в том числе, кинематографа является сентиментальность. Вторят ему и молодые коллеги по цеху.
Разберемся, в чем же тут дело. В тот самый рубеж 60-70-х, когда была снята «Смертная казнь», японский писатель Юкио Мисима сокрушался над торжеством в области искусств «моно-авари» – всего утонченного, хрупкого и изящного, словом, женского. Впрочем, он не учел, что культурный оползень лишь на пару мгновений (в масштабах истории) задержится в области зыбкой красоты. Вернувшись в жерло праобразов, он снова осел в недрах мифологического вулкана, где в андрогинно-языческих шабашах родились образы японского авангарда, под дудку которых и кружится до сих пор когда-то только восходящее солнце.
В Корее же, как упоминалось, в те годы и речи не могло быть о высвобождении стихийного бессознательного. Однако, как только горизонты перед творцами очистились, стало очевидно, что в Корее теперь тоже будут «следовать за женщиной». Даже отношение к северным собратьям постепенно перешло в стадию горечи, ностальгии и такого женского непонимания того, «почему же мы не вместе».
Желание просто быть вместе, несмотря ни на что, нашло яркое воплощение в дебютном фильме Пак Чхан Ука «Объединенная зона безопасности», диск с которым южнокорейский президент однажды подарил Ким Чен Иру. Фильм живописует незаконную дружбу солдат-пограничников из двух стран, начавшуюся после того, как южнокорейцы случайно потерялись на заминированной территории врагов, а те решили их спасти. Сюжет построен нелинейно, и начинается со сцены ожесточенной перестрелки. Затем в серии флешбеков, инициированных ведущей расследование Софи Чан (гражданка Швейцарии, чей отец – кореец), зритель узнает, как все было на самом деле.
В европейском кино 70-х Бертран Блие и Марко Феррери сбрасывали мужчин с их фаллического пьедестала с горечью и озлоблением. Для Пак Чхан Ука это событие уже свершилось, потому мужчины в фильме без каких-либо проблем дают волю чувствам, а женский персонаж беспристрастен и служит призмой зрительского взгляда, так же незнакомого с местными реалиями.
Итак, пресловутая сентиментальность и обращенность на, выражаясь по-юнгиански, акаузальные потребности Анимы (души), формирует следующий полюс выразительности корейского кино – насилие. Наверное, каждому местному режиссеру и специалисту по корейскому кино приходилось тратить силы, доказывая, что местные режиссеры не маньяки и не в ответе за уровень преступности в стране, просто потому, что тот предельно низок.
В Корее в целом, действительно, все очень хорошо. Именно поэтому спокойные и уверенные в безопасности граждан творцы, по старой аксиоме Аристотеля, используют творчество, чтобы через преображение художественными средствами открыть во внушающем ужас и отвращение источник катарсиса. Итак, корейский кинематограф формирует особое семантическое поле, в котором насилие становится языком надрывных, опустошающих своей интенсивностью чувств, выражающих страх перед фатальным могуществом неизвестного.
Поэтому самые лучшие и насыщенные философскими тропами корейские детективы описывают истории нераскрытых дел. Сюжетные коллизии заставляют персонажей иметь дело с невидимым источником видимых действий, то есть погружают их, как правило, простых людей, в самую основу древнего метафизического конфликта между разумом и иррациональным.
Освоение образа действий этого иррационального, фактически обучение его языку, необратимо меняет быт и привычки простого человека. Жестокость, которая не имеет в своей основе разумной подоплеки, издревле существовала в природе и витальном могуществе, наследником которого делали женщин еще такие старые диалектики в шкуре поэтов, как Еврипид.

Прямо сейчас, а не после. Хон Сан Су
Стоит только вспомнить его «Медею» или «Вакханок», чтобы ощутить страх логика перед сексуальностью, высвобожденной неприкрытой чувственностью. Порожденная таким образом хтоническая жестокость может смести в ярости на закономерности общества и самое себя, и своих близких. Именно в этом ключе стоит интерпретировать закономерности универсума корейского кино. Его герои живут в женском, читай ведьминском, мире, где причинность не может быть строго зафиксирована, и Рок, без противостояния которому не может быть никакой трагедии, бушует во всей своей стародавней мощи.
Введение в сюжет персонажей, действующих «от лица стихии» – фирменный ход корейского режиссера. Инновация, по сравнению с древними греками, заключается, разумеется, в том, что диспозиция все-таки серьезно изменилась. Современность исказила реалии, определявшие закономерности драматургии, и вытеснила все природное в бессознательное. Но так стало даже интереснее. Ведь оружием рока может стать существо не только не героическое, но и вовсе объективно ущербное, а женщина теперь способна не только быть воплощенным «без-умием», но явиться его, если не противником, то «реформатором».
И самое важное – быт, уклад жизни маленького человека стал куда более значительным фактором, чем в античности. Так что теперь обыватель сделался потенциальным участником героического топоса – ведь он представляет не только свои желания и привычки, но институт со своим, пусть покрытым трещинами, но фундаментом.
Мелочность и простота человеческого уклада также открывают для него узкую тропку для самопожертвования, пролегающую между безжалостной стихией (см. «Медея») и практичностью большого города, где людей защищает от трагедии преувеличенный страхами инстинкт самосохранения.

Мать. По Джун Хо
Так, например, в фильме «Мать» По Джун Хо душевнобольной (но, как водится в маленьких городках, недиагностированный) подросток обвиняется в совершении жестокого убийства и даже в нем признается, хотя сказать наверняка, убивал ли он, не может. Его родительница, местная знахарка (отсылка к архетипу ведьмы), берется защитить сына всеми возможными способами. По Джун Хо мастерски дает волю «хаосу, таящемуся внутри каждой женщины», придавая ему организованность (как иначе быть детективом) и направляя на взлом заржавелого замка общественного порядка и еще менее определенного психологического самосознания местных жителей. Трагизм здесь заключается в том, что так же, как в фильме «Пьета» Ким Ки Дука, поведение матери является актом самопожертвования – не только физического, но, что куда более важно, духовного. Грандиозность усилия, каким оно является для обывателя, совершенно не разбирающегося в тонкостях собственной психологии, оформляется режиссером в десятках точнейших иллюстраций.

Мать. По Джун Хо
Блага современной цивилизации отнюдь не свели на нет в корейцах первобытную энергию, которая у героев Зайдля, например, стоит в подвале, в бочонках из-под хереса. Иначе бы не смогли местные художники отыскать для нее столь обширные сферы сублимации через кино. Толстовская близость к природе для корейского кино не являлась бы столь постоянно репрезентируемым фактором, если бы не один важный и последний для нас аргумент.
Прямо как во времена гностицизма, в корейском бесссознательном, несмотря на внешний блеск хромированных корпусов, прямо сейчас в ритуальных плясках сочетаются буддизм, христианство и шаманизм – подробнее об этом в той же самой «Пьете» Ким Ки Дука и его же «Самаритянке».

Пока нет комментариев