От петербургского книжного издательства «Планета музыки» новый подарок балетоведам и всем любителям хореографического искусства
Под названием «Ирина Колпакова. Дуновение красоты. Портрет русской балерины» опубликована монография балетного критика Александра Демидова. История сродни детективу. Демидов ушел из жизни в возрасте сорока шести лет в далеком уже 1900 году, а его рукопись обнаружена совсем недавно. Инициатива донести текст до читателя принадлежит известному деятелю музыкального театра – ученому, доктору искусствоведения Александру Колесникову. Он стал редактором книги и автором вступительной статьи, из которой читатель узнал, что А. Демидов «вошел в профессию» во второй половине XX века. Выпускник театроведческого факультете ГИТИСа, он возглавил отдел критики журнала «Театр». Как автор полемических статей и книг стал «видной фигурой театрально-критического процесса».
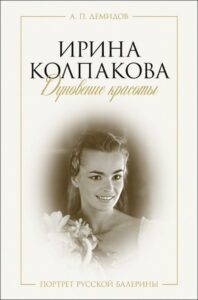
Обложка книги
Книга посвящена творчеству именитой ленинградской балерины –Ирины Колпаковой. Ученица Агриппины Вагановой, она долгое время занимала высшую ступень балетной иерархии, ей было присвоено почетное звание народной артистки Советского Союза. Не счесть профессиональных и правительственных наград Колпаковой. Среди них премии международных конкурсов и фестивалей, Государственная премия СССР Орден Трудового Красного Знамени. А Орден Ленина был вручен артистке вместе со званием Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги в развитии советского хореографического искусства и в связи с 200-летием Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. А еще Ирина Александровна была избрана депутатом Верховного Совета СССР. К сожалению, на рукописи Демидова нет даты, однако период работы над ней можно предположить: 1960-е годы резонансные премьеры балетов Юрия Григоровича «Каменный цветок» и «Легенда о любви», в которых Колпакова была первой исполнительницей партий Катерины и Ширин. Личные впечатления отражает посещение автором спектаклей начала семидесятых, в частности балета «Сотворения мира».
Книга разделена на шесть глав. В первой – «Накануне» — слышен биографический голос Ирины Александровны, рассказавшей о начале пути в профессию балерины. Читатель узнает о перипетиях судьбы, забросившей маленькую Иру с мамой в Пермь в 1942 году в связи с эвакуацией из Ленинграда. Познакомится с именами Аллы Шелест, ставшей для девочки образцом балерины, первых педагогов Лидии Тюнтиной и Елены Ширипиной, первого партнера Юрия Умрихина. Далее наступает черед комментария событий самим Демидовым. Этот прием «виртуального» диалога, дополняющего портрет героини, сохранится и во второй главе, где речь о «Поиске своей темы», и в третьей – об «Актрисе нового типа». Здесь Колпакова делится: «Танцевать Ширин – одна сплошная радость. Звенящая радость. Думать об образе? Нет, здесь не надо думать, надо только хорошо исполнить все, что сочинил Григорович, весь характер Ширин – в его хореографии». Вступает ли Демидов в полемику с балериной, отмечая, что «пластический материал – чувственный и экзотичный рисунок капризно-изменчивого характера, казалось, не в ее манере»? Отнюдь, он причисляет Ширин «к группе условно называемых идеальных героинь, вечно женственному началу танца». В результате делается вывод о Колпаковой, которая в этой роли «явила во многом новый психологический тип характера…»
Однако в четвертой главе («Вера в танец») структура меняется. Здесь уже сам Демидов дает себе волю в изложении собственных впечатлений, мыслей и чувств, удовлетворяя некую душевную потребность. В круге образов Колпаковой он выделяет, например, Джульетту, Золушку, Марию («Бахчисарайский фонтан), Дездемону («Отелло В. Чабукиани), Нину («Маскарад» Б. Фенстера). Рассматривая роли, которые, по словам Демидова, Колпакова считала для себя «чужеродными», критик отмечает характерную деталь психологии танцовщицы – ее «странную апатию и полнейшее равнодушие». В таких случаях, несмотря на честность подхода к освоению образа, Колпакова, — резюмирует биограф — не достигала желаемого художественного уровня, «ибо мир ее образов не хочет включать в свою орбиту миры, где жизнь идет по другим (не академическим — А.М.) законам.

Золушка. «Золушка», 1960-е
Ирина Колпакова была признана безупречно владеющей школой классического танца. Но от ее кристального академизма порой веял холодок отстраненности. Было ли это бесстрастностью, которой упрекали артистку? Демидов пишет: «Григорович увидел в искусстве Колпаковой психологическую и современную тему, определившую характеры его первых героинь. И, конечно, неверно искать аналогии художественной манере танцовщицы в исполнительской стилистике балерин крупнейших зарубежных трупп инструментально-классического направления. Примем во внимание, что и самое понимание актерских данных сегодня иное в сравнении с балеринами прошлого, с их мимикой и бытовыми средствами игры. Тот факт, что Колпакова не обладает ими, еще ничего не означает».
Не будучи специалистом в профессионально балетной области, автор излагает свои суждения с эстетических позиций театроведа, оставляющего за скобками – что естественно – «балетоведческий» разбор танца портретируемой. Его язык – это язык ученого: конкретный, деловой, лишенный поэтической пышности. Получилась собственная концепция, определившая место и роль Ирины Александровны в истории русского балета XX века.

Мария. «Бахчисарайский фонтан», 1950-е
Над книгой работали О. Филина (верстка), О. Унгарова (корректор). Белую нарядную обложку с портретом героини оформил А. Лапшин.
Формат издания небольшой по внешнему размеру, содержит сто девяносто четыре страницы текста, украшенного редкими фотографиями. Черно-белые, они довольно хорошего полиграфического качества. Лапидарность общего стиля заключилась в сдержанных графических виньетках и орнаментах. Книгу приятно взять в руки, интересно рассматривать и читать. Она адресована балетоведам, театроведам – всем, кому интересно отечественное хореографическое искусство.

Пока нет комментариев