В Малом зале Московской консерватории 11 июня в день рождения советского композитора Виссариона Шебалина состоялся концерт в его честь.
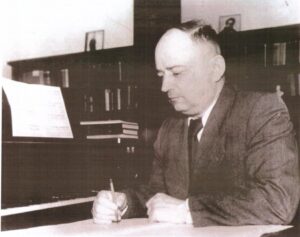
Виссарион Шебалин
Участники Лундстрем трио, а вместе с ними Павел Федосеев (альт) и Григорий Рымко (фортепиано) исполнили его редко звучащие камерные сочинения.
Часто бывает так, что при жизни автор популярен, его творчеством интересуются, слушают, но после смерти композитора его музыку окутывает пелена забвения. Именно так случилось с Шебалиным — профессор и ректор Московской консерватории, Народный артист РСФСР, Лауреат двух Сталинских премий первой степени, Доктор искусствоведения, ученик Николая Мясковского состоялся во всех смыслах — его сочинения часто исполнялись в послевоенное время. Сейчас же о нем помнят и знают, пожалуй, лишь музыковеды. Ставится лишь его лирико-комическая опера «Укрощение строптивой» — например, она идет в НОВАТе.
Широкую любовь народа получили современники Шебалина — более амбициозные и экстравертные, смелые новаторы Прокофьев и Шостакович, а он остался в тени.
Лирическая по своей природе, направленная больше внутрь человека сущность музыки Шебалина отличает его от саркастичности, острого прокофьевского гротеска, жесткости и мощи Шостаковича. Владимир Протопопов в своей статье о творчестве композитора отмечает: «Нам представляется, что Шебалин по натуре — лирик. Его лучшие сочинения — лирические… Лирика Шебалина богата самыми различными оттенками. Образы хрупкие, нежные — и торжественно-гимнические; грустные, задумчивые — и страстно-взволнованные; сосредоточенно-серьезные — и шутливые, легкие, изящные — все это можно найти в его сочинениях».

Виссарион Шебалин с учениками
В музыке Шебалина чувствуется преемственность предыдущих поколений композиторов — прежде всего Бородина и Мусоргского, потом уже Чайковского и Рахманинова. Но это не значит, что язык и стиль автора вторичен или подражателен: Шебалин сочинял так, что в его произведениях наряду с поклоном традициям слышна самобытность автора, его индивидуальность. Виссарион Яковлевич любил использовать старинные лады, которые, несомненно, обогащали его музыку. Творчество композитора неотделимо от русского мелоса: в мелодиях, которые он применяет, слышится истинно русский отпечаток, истинно наши интонации.
Инструментальная музыка была для Шебалина областью, где он мог наиболее полно высказаться о том личном, сокровенном, что волновало его душу.
Представленные в консерваторском концерте Виолончельная, Альтовая, Скрипичная сонаты, а также Соната для скрипки и альта и Фортепианное трио вполне это доказали.
Первая часть программы достаточно сильно отличалась от второй: сочинения, которые здесь прозвучали проникнуты отчаянием, вселенской печалью, угрюмой взволнованностью.
Все это можно сказать о Виолончельной сонате (1960) op.51 — состояние мрачной решимости в ней усиливается с каждой частью. Передохнуть здесь в прямом смысле негде — даже вторая часть, которая по идее должна быть скерцо, пропитана настороженностью и нервозностью. Анданте (3 часть) сродни похоронному маршу. Мажор и свет появляются лишь в самом конце Финала: Шебалин словно говорит нам, что путь к ним лежит через настоящие страдания. Это произведение требует огромной эмоциональной выдержки от музыкантов, ведь трагедию, которая в ней заложена, необходимо передать максимально полно: Владимир Нор (виолончель) и Григорий Рымко (фортепиано) точно отразили композиторский замысел, чувствуется, что они пропускали через себя каждую ноту. Виолончель Нора звучала то порывисто и страстно, отображая в прямом смысле крик человеческой души, то более тепло и мягко, словно утешая исстрадавшегося героя.

Виссарион Шебалин
Альтовая соната (1954) op.51 оказалась чуть более лирической, чем предыдущее произведение и дала некоторую передышку слушателям, но и тут все было не так просто. Круг настроений этого сочинения более широк: балладность первой части сменяется распевностью второй, в которой однако есть место и мрачной маршевости, и задушевности. Венчает сонату очень русский по своей музыке финал, в нем сопоставляется изящная, чуть горделивая тема с драматическими эпизодами — заканчивается же все торжественным, практически колокольным звучанием. Тут стоит отметить, что камерная музыка Шебалина, написанная для скромного количества инструментов, звучит огромный коллектив. Павел Федосеев и Григорий Рымко в своей интерпретации максимально подчеркнули эту сущность сочинения: они выводили на первый план именно ее масштаб.
Наиболее тяжелым, очень эмоционально давящим сочинением из всей программы концерта оказалась Соната для скрипки и альта (1944). В ней Шебалин как будто отражает эмоции народа, связанные с Великой Отечественной: здесь много терпких, острых, диссонирующих созвучий, музыка предельно напряжена. В трех частях можно услышать оплакивание павших в боях, и стоны самих умирающих, почти что зримо ощутить их предсмертные галлюцинации и видения, когда пелена застилает глаза. Это произведение — своеобразный реквием по тем, кто умер в борьбе за Родину. На сцену вышли Леонид Лундстрем и Павел Федосеев. Музыканты словно сами пережили все то, о чем говорится в музыке Шебалина: это было слышно по тончайшим эмоциональным градациям, которые можно было почувствовать из сплетения голосов скрипки и альта, они рождали настоящую, несоизмеримую ни с чем боль.
Расслабление наступило во второй части программы, когда зазвучала Скрипичная соната (1958). Она сильно отличалась от всех предыдущих сочинений своим демократизмом, широтой, кантиленностью мелодий, отсутствием каких бы то ни было депрессивных эпизодов. Соната вся будто напоена ароматом родной земли, красотами русской природы и пейзажей и лирикой пейзажей. Здесь Шебалин по уровню мелодизма близок к гениальным русским композиторам — особенно вспоминается Чайковский. Сама программа произведения вопросов не вызывает и построена по принципу контраста: лирическая первая часть сменяется богатырским, размашистым скерцо. Третья часть — подлинная русская песня без слов. Это словно оазис трепетности и чистоты. Четвертая часть близка финалам русских симфоний: здесь преобладают плясовые темы, вызывая ассоциации с гулянием на ярмарке. Эталонное воплощение этой чистейшей музыки представили пианистка Мария Воскресенская с ее аристократичным, мягким звучанием инструмента и Леонид Лундстрем, скрипка которого в прямом смысле пела и радовала слух нежностью и лаской.

Лундстрем трио
Грандиозным финалом всего концерта стало исполнение Фортепианного трио op.39 (1946-47, посвящено Давиду Ойстраху, Святославу Кнушевицкому и Льву Оборину). В нем явственно ощущается соприкосновение с трио «Памяти великого художника» Петра Чайковского и элегическим трио «Памяти великого артиста» Сергея Рахманинова. Но сочинение Шебалина насквозь проникнуто трагедийностью. Это настоящий шедевр советской камерной музыки, созданный в лучших традициях русской музыкальной школы. Через все произведение проходит тема первой части — порывистая, стремящаяся вверх, в бесконечность, но неизменно никнущая. Шебалин гениально выстраивает драматургию трио, рисуя русскую безысходность, трагизм существования человека— музыка в прямом смысле вынимает душу из слушателя. Просветление не наступает и во второй части, а наоборот усиливается: буря эмоций, отчаяние захлестывает главного героя, идет нагнетание кошмара. Третья часть представляет собой краткую тему архаического, былинного склада и ее вариации: первая, например, похожа на отпевание, третья — на трагический марш, четвертая воплощает собой дикую, необузданную, несущуюся как смерч пляску. В коде слышно звучание практически рахманиновских колоколов, она предваряет тему первой части, которая здесь показана во всей полноте и оркестровом масштабе. Лишь в самых последних тактах наконец утверждается мажор. И снова все та же идея, что в Виолончельной сонате, открывшей концерт: через муки и невзгоды, тяготы — к Свету.
Охватить целиком это сочинение могут только мастера, к коим и относятся Лундстрем трио. Здесь они воссоединились, грандиозно, со всей ответственностью, уважением к композитору, воплотив его замысел. Невероятный эмоциональный накал, русская глубина и ширь, мощь воплощались в этих трех музыкантах, которые смогли создать архитектонически стройное и выверенное по форме исполнение, насыщенное непоколебимой силой.
Леонид Лундстрем заключил концерт цитатой Николая Метнера: «Я никак не мог понять, как нужно делить композиторов и пришел к такому выводу: могу ли я прожить без Стравинского? Легко! Могу ли я прожить без Бетховена? Не могу».
От себя Лундстрем добавил: «Мне кажется, дорогие друзья, что мы теперь по крайней мере без Шебалина точно не сможем прожить». И вдохновенные овации публики стали тому глубоким подтверждением. Без Шебалина мы теперь — никуда. Его время пришло.
Фото из открытых источников

Пока нет комментариев