Куда пропал скрипач? Он был еще вчера! – так хочется перефразировать начало хорошо забытой песни. Но текст ниже вовсе не будет унылым нытьем по типу «раньше было лучше». Хотя тема, которую он затрагивает, количеством своих связей с мировой и русской культурой, потребует от автора напряжения всех его словесных желез в попытке объяснить необъяснимое.
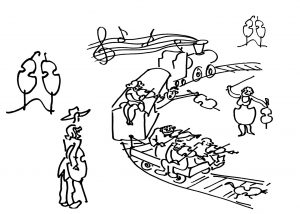
Автор рисунка Яковис Л.М.
Да и скрипачи, разве они пропали? Их стало гораздо больше! Сколько школ, училищ, консерваторий, даже в метро Баха играют. Интерес к скрипке не гаснет, недавний ролик Despacito в исполнении бойкой девочки со слегка деревянными ручками
превысил 42 000 просмотров за месяц, а к моменту публикации, наверно, ещё увеличится. Реклама разных дорогих и не очень товаров благоволит к этим странным изящным предметам с 4-мя струнами, начиная еще с Rothmans’овского знаменитого контрабаса. Они в тренде! Почти.
История пиления по струне смычком достаточно древняя. Практически в любой культуре присутствовала какая-нибудь палка, воткнутая в горшок для усиления зудения веревки из сушеной кишки, по которой возили конским хвостом — как это и делается до сих пор. Как в итоге из этого родилась скрипка, автор не знает и никогда не поверит, что причиной появления итальянской скрипки стали какие-то буржуазные отношения, вытесняющие феодальные (по утверждениям историков музыки, от инструмента потребовалось больше звука, чем могла дать аристократическая виола, вышедшая в концертный зал из комнаты во дворце).
Исторически существует несколько десятков «школ» игры на скрипке. Очевидно, что термин «школа» позволяет объединить некоторое количество скрипачей по манере и технике игры. У каждой школы есть некий родоначальник, один или несколько, не только воспитавший когорту значимых в истории скрипачей, но и создавший какой-нибудь литературно-музыкальный печатный труд, в котором объяснил свои основные принципы, созвучные эпохе. В частности, такой труд создал Леопольд Моцарт, который в свое время был знаменит куда больше своего супергениального сына, доставившего ему немало огорчений. Сегодня его Grundschule – один из основных источников сведений о том, как же скрипачи ухитрялись играть без мостиков, подбородников, в неудобной одежде и странной, хотя уже ставшей привычной и полюбившейся многим аутентичной манере.
В связи с тем, что техника звукозаписи была изобретена только в конце XIX века, очень многие явления в музыкальном мире для нас безвозвратно утеряны. Например, мы знаем, что Шарль – Огюст де Берио, выдающийся скрипач, композитор и педагог, также автор фундаментальной школы, рекомендовал для правильного понимания движения правой руки зажимать под мышкой книгу, что очень странно современному скрипачу. Однако мы никогда не узнаем, как именно играл Шарль-Огюст, нежно или страстно, как у него звучало и, главное, какие идеи, созвучные эпохе он выражал своей игрой. Косвенно мы можем судить об этом по характеру его музыки, к счастью, многочисленной и весьма полезной для сегодняшних юных скрипачей.
Музыка сродни театру: как и в театре, у этого вида искусства есть посредник между творцом и зрителем, интерпретирующий концентрат мыслечувств произведения согласно своему уровню культурной вовлеченности и интеллекта. В переводе на русский это означает, что композитор пережил глубокую страсть (по любому поводу, так как у него все страсти глубокие, даже по поводу «утерянного гроша»), и когда она уже утихла, он вынул из себя звуки, которые у него возникли в связи с событием в рамках эстетических критериев времени, высушил их и выложил на бумагу в виде закодированных вечных истин. Эту бумагу взял скрипач, представил себе эти звуки и они срезонировали, в свою очередь, с его личными чувствами и истинами. В руках скрипача звуки композитора вновь обрели тело и кровь, и пошли к слушателю, который воспринимает их как сплав композиторской мысли и исполнительского воплощения. Насколько эти звуки будут резонировать с чувствами и мыслями слушателя, зависит не только от концентрации вечных истин на единицу звука (обязанность композитора) и не только от широкополосности и мощности коммуникации (обязанность скрипача), но и от наличия необходимых для резонанса контуров в голове слушателя (обязанность слушателя – читать книги, слушать музыку, впитывать культуру). Поэтому если для профессионала все эти скрипичные школы интересны с точки зрения постановки рук (исторической и современной), и об этом содержится достаточно информации в самих основополагающих трудах каждой такой школы, то для широкого слушателя могло бы быть интересным именно художественное наполнение, сообщавшееся представителями такой школы слушателю концерта. И в этом смысле представляет интерес не одна конкретная школа с книгой под мышкой, но целый культурный пласт, который условно можно обозначить «немецкая школа», «французская (франко-бельгийская) школа», «русская школа», «американская школа», «советская школа», возможно, скоро станет правомерным термин «китайская школа» — большие культурно-скрипичные конгломераты с довольно-таки стертыми границами.
XX век, несомненно, характеризовался торжеством русской скрипичной школы и отпочковавшейся от нее американской школы. Но была ли русская школа в полном смысле этого слова русской?
Санкт-Петербургская консерватория не могла пожаловаться на учителей скрипки. Только лишь пост профессора оставил в 1868 г. знаменитый польский скрипач и композитор Генрик Венявский (польский еврей, принявший христианство), как это место занял молодой и очень перспективный 23 летний Леопольд Ауэр (венгерский еврей, принявший христианство). Обладавший незаурядным талантом и мощной харизмой Л. Ауэр уже в 14 лет был единственным источником доходов своей семьи, разъезжая с концертами по венгерской провинции, на всем, что могло катиться, иногда на телеге, по его воспоминаниям. Л. Ауэр учился в Вене у европейского мэтра скрипки, Якоба Донта, прекрасного методиста и автора этюдов, до сих пор не потерявших актуальность, и перенес его школу на благодатнейшую для всех искусств русскую культурную почву, которую удобрял вплоть до 1918 года своей эмиграции через Европу в США. Обладая к тому времени мировым именем (с 1874 г. солист Его Величества, глава квартета Русского музыкального общества), Л. Ауэр получил кафедры в Нью-Йорке и Филадельфии. Там он продолжил свое более чем славное дело, безусловным венцом (но не концом) которого послужило воспитание скрипача №1 всех времен и народов, Яши Хейфеца (которое, собственно, началось еще в Санкт – Петербурге). Таким образом, русская скрипичная школа — это двуликий Янус, хотя ее американский лик, в основном, и был сформирован еще в России (удивительно, как многое связывает эти две так далеко разошедшиеся сегодня страны). Впоследствии Я. Хейфец так отозвался об Ауэре – учителе: «Ауэр был несравненным педагогом. Думаю, никто в мире не мог бы даже приблизиться к нему. Не спрашивайте, как ему это удавалось, я все равно не смогу ответить». Поскольку обучение скрипке (как и любое музыкальное обучение) никоим образом не является простой передачей информации, но установлением особого контакта учителя с учеником (раппорта), можно предположить, что Л. Ауэр, как большинство харизматичных людей, обладал, кроме скрипичного мастерства, некоторыми гипнотическими свойствами. Это подтверждается тем, что его педагогический манифест, «Моя школа игры на скрипке», не содержит каких-то выдающихся откровений или инновационных технологических методик. Постановка рук учеников его класса также значительно разнилась. И как же объяснить тот факт, что до встречи с М. Эльманом уже, практически в возрасте около 60 лет, Ауэр не воспитал ни одного мирового имени?
Современное воображение поражает количество этнических евреев среди учеников Л. Ауэра. Карл Флеш, великий методист, скрипач и педагог первой половины XX века (также этнический еврей) в своих воспоминаниях сетовал, что Ауэр «… имел в распоряжении отличнейший материал – учеников, выходцев из гетто царской России». В то время как он, Флеш, учил, кого придется (думается, преувеличение). Это ведь известно, что отбор учеников — наиважнейшая составляющая славы учителя. Есть большая разница, поджигать сухие дрова или сырые – в первом случае священный огонь вспыхивает при соответствующем умении быстро и жарко, во втором возись-не возись, а гореть так себе будет, слабенько и с дымком. Многие европейские и русские деятели культуры противились наступлению на классическое европейское музыкальное наследие «южной страстности», как они писали, зарабатывая себе клеймо антисемита. «Все эти Осипы, Евсеи, Гриши и Миши похожи друг на друга, как одна порядочная скрипка на другую… наиболее шустрые из них, смутно подозревая в публике любовь к «экзотическому», ворочают белками в ожесточённых пассажах или делают томные глазки, ведя кантилену, причём в последнюю они стараются, аффективно вибрируя звук внести как можно больше слащаво-приторной южной страстности, крайне нехудожественной и варварски нарушающей европейский стиль», писал музыкальный критик Э.К. Метнер, брат композитора Николая Метнера1. Его слова кажутся возмутительными, но стоит припомнить, что до описываемых времен, в манере игры великих скрипачей XIX века такой важнейший выразительный компонент скрипичного звука, делающий его похожим на страстный человеческий голос, как вибрация, присутствовал лишь эпизодически. Постоянная вибрация считалась дурновкусием, она неприятно действовала на нервы пуристов от искусства. Не только Метнер, но и сам Герман Гессе в своей новелле «Концерт виртуоза», не мог не пройтись по опошлению классического величия: «А мы, несколько пуритан, внутренне оборонялись, мы вели героически бесполезные бои, мы раздражённо смеялись над ерундой, которая тут игралась, и всё-таки не могли не заметить блеска этого смычка, прелести этих звуков и не ухмыльнуться по поводу какого-нибудь очаровательного, хотя и пошлого, но волшебно сыгранного пассажа». Педагогическая линия Ф. Крейслера, одного из первых обладателей непрерывной вибрации, которого Гессе, несомненно, имел в виду, пришла из франко-бельгийской школы. Он — ученик Л Ж. Массара, который, в свою очередь был учеником великого Джованни Баттиста Виотти. Поток романской чувственности размывал тяжелую немецкую философию, приводя в раздражение блюстителей строгого стиля и готовя почву для нового прорыва, рождения русской школы. Живая публика, к неудовольствию строгих критиков, благосклонно восприняла новшество, и непрерывная вибрация вошла в традицию буквально при жизни и деятельности Л. Ауэра, во многом с подачи Фрица Крейслера этого обаятельнейшего, талантливейшего, знаменитейшего скрипача и просто харизматичного красавца с добрым нравом, который много гастролировал и часто бывал в России.
Казалось бы, какая разница? Кто у кого учился и затем, в свою очередь, научил? Дело в том, что педагогическая линия в музыке почти так же важна, как в генеалогии. Поскольку музыкальная педагогика предполагает тесный психический контакт, неизбежно сильное влияние личности харизматичного учителя на учеников как непосредственно, так и путем создаваемой в классе атмосферы. Но все же, для такого общего явления, как национальная школа, харизмы одного, даже самого выдающегося человека, мало. Если для франко-бельгийской школы было характерно изящество и совершенная законченность исполнения, красота звука, проистекающие из основных черт французской культуры и ментальности, то главным отличием русской скрипичной школы (так же, как фортепианной или актерской) явилась вовсе не особая, «русская» хватка смычка с сильным наклоном кисти и глубоким указательным пальцем, но в искреннее и мощное выражение эмоций в музыке (потребовавшее особого нажима на смычок). Этот фактор является основополагающим для всего русского искусства. Еще в своем «Музыкальном обозрении 1847 года» знаменитый критик В. Стасов, своей могучей личностью, практически сформировавший как вкусы публики, так и направление музыкального развития России, писал о «Венецианском карнавале» Н. Паганини в исполнении замечательного скрипача и композитора Г. Эрнста, давшего концерт в Санкт-Петербурге: «Всякие писки и визги, всякие воробьиные чириканья и другие скотские голоса производятся в этой пьесе скрипкой для утешения радующейся публики. Нет спора, что надобно хорошо владеть своим инструментом для произведения таких фокусов, или, по выражению публики, «для того, чтоб делать из скрипки все, что хочешь»; но мы твердо убеждены, что в художнике всего важнее законность и правильность направления этой воли; надобно, чтоб ему не хотелось ничего дикого, ничего странного, тем более пошлого». И далее он пишет: «На этом основании мы считаем за лучшее, что только исполнял здесь Эрнст — его «Элегию». Фокусов в ней нет, но сколько нужно полного владения своим инструментом для того, чтоб из него понеслись такие страстные, такие глубоко западающие тоны, чтобы в них лежало столько самой простой правды!»
http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1847_muzykalnoe_obozrenie.shtml
Искания правды, истины всегда были в центре русского мироощущения, это подтверждается и в языке: слово «ложь» имеет в русском языке ярко выраженную отрицательную коннотацию и white lies, являясь политкорректным и эмоционально нейтральным (если не положительным) понятием английского языка, может быть переведено лишь как «ложь во спасение»- то есть, не менее чем спасение требуется русскому сознанию в качестве оправдания лжи. Русской музыке в ее лучших проявлениях совершенно чужд пафос, присущий, практически, всем западноевропейским шедеврам. Пафос театрален и безличен и, как следствие, холоден. Классическая трагедия ни в малейшей степени не теряет своей силы, будучи исполнена в маске вместо лица. Лучший пример такого рода – творчество Г-Ф. Генделя. Нет более прекрасной, более благородной и более безличной музыки. В то же время, лучшие страницы П. Чайковского, М. Мусоргского написаны кровью их сердец, и исполнять их пафосно и отвлеченно означает просто- таки нагадить гению в душу.
Естественно, русская скрипичная школа не могла не впитать эти, даже не эстетические, но мировоззренческие установки. С одной лишь серьезной поправкой, русская скрипичная школа на тот момент более чем на 90% состояла из евреев, принесших с собой свои собственные многовековые «южные» страсти и печали. Традиционно считается, что обилие евреев в классе Ауэра в частности и на эстраде со скрипкой в целом, является следствием народной любви к этому инструменту. На самом деле, давние традиции народной скрипки существовали и в Европе, в частности, в Ирландии, Скандинавии, Германии. Можно тут вспомнить и пошетты французских учителей танцев, хотя к народной музыке это уже отнести сложно. У кремонской аристократки полно простонародных старших родственниц. Ящичек, да 4 веревки – такой инструмент и самому можно сделать и таскать под мышкой, чай не клавесин с органом, даже не гусли. Но использовалась скрипка и ее прототипы в европейских культурах преимущественно как инструмент танца, максимум бурдонный (наподобие волынки), в то время как в восточных культурах струнные инструменты использовались еще и как инструмент пения и импровизации. Это восточный скрипичный колорит пришел в Европу через цыганских и еврейских скрипачей (дойна). Интересно, что румынские или молдавские дойны, в которые не проникла традиция еврейского канторального пения, в целом, не содержат «рыдательный» компонент.
К тому же, скрипка – инструмент с наиболее ярко выраженным экспрессивным началом. Духовые всегда окрашены жанрово (при конструировании гобоя никто не думал об имитации голоса, как это было в случае лучших скрипичных мастеров). Дудка — это пожарная команда, военный сигнальный горн, охотничий рог или свирель пастуха, так они и закрепились в культуре. Рояль – и вовсе ударный инструмент, инструмент философского обобщения, единственный в своем роде, очень приятно, царь. Великие пианисты распределены по народам примерно в равных количествах. Виолончель поет густо и похоже на голос, но от ее «мужественного» тембра тоже как-то не требуется душевной тонкости и восприимчивости. Ну, хорошо, не настолько. Да и большевата. И только скрипка, королева русско-еврейской души могла рыдать именно так, как этого хотелось нервной публике начала XX века. В качестве иллюстрации вышенаписанному хочется привести, практически, единственную сохранившуюся запись настоящего скрипача-клезмера, Leon Ahl.
На ней слышны как народные приемы игры, ныне утерянные (доведенная до совершенства имитация народного пения), так и европейское влияние (в частности, чередование тонических и доминантовых классически исполненных аккордов в конце).
На музыкальную традицию наложились социальные обстоятельства: скрипка для отпрыска бедной еврейской семьи была пропуском в столицу, а возможно, и к мировой карьере (автор уверен, что тот же стимул лежал в основе воспитания и советских скрипачей, для которых заграница была чем-то вроде обитаемой Луны). Со всей страны везли Ауэру талантливых детей — и позднее история повторится с замечательным московским педагогом Ю. Янкелевичем, создавшим неофициальную сеть регулярных поставок талантливых детей в свой класс. Жесткие требования педагога, творческая атмосфера в классе, и, главное, ощущение пропасти за спиной (не будешь работать, поедешь сапоги тачать в местечко) создавали необходимую для роста гениев среду.
По мере обучения в классе Ауэра и воспитания личности в имперском Петербурге, местечковый шмальц уходил из игры юных гениев под давлением культурной среды, требовавшей не только выразительности, но и вкуса. Время столкновения идей, социальных беспорядков, приведших к крупнейшим потрясениям в истории человечества, закрепили этот уникальный сплав философской глубины, страсти, мощи и лиричности, свойственный великим скрипачам начала XX века.
Поэтому на провокационный вопрос, была ли русская скрипичная школа русской, ответ — была. Несмотря на национальную составляющую ее основателей, она находилась в мейнстриме русской культуры, и именно это обстоятельство вывело ее на недосягаемую высоту.
Но можно задать куда более провокационный вопрос: куда она подевалась сегодня?
Коллеги говорили о Галамяне, педагогическом потомке Ауэра (Л. Ауэр — Б. Сибор — К Мострас — И. Галамян), отце американской школы и авторе прекрасного методического пособия, что тот «мог научить играть на скрипке даже стол». Эту фразу наверняка можно отнести и к великим московским педагогам XX века, наследникам Ауэра. Но, как ни странно, в этом высказывании заключается зерно специфической деградации скрипичного искусства, которое мы наблюдаем сегодня. XX век, век основания технологических империй, не могло устроить кустарное штучное производство скрипачей. В рамках культурной революции, провозглашенной правительством Советской России, практически, сразу после 1917г в течение последующих 10 лет выстроилась система всеобщего внешкольного музыкального образования, предполагавшая качественный охват всех возрастов, начиная от 6-7 лет и, в случае профессионального обучения, до 25. Такой системы на тот момент не было нигде. Надо отметить, что, ослепленные презрением к обуви советского изготовления, многие до сих пор неспособны осознать всей грандиозной новизны осуществленных СССР в культурном плане идей. Идей неизбежно однобоких, но в части музыки, часто не имеющей предметного содержания (а значит, безопасной для системы), наиболее эффективных. Конечно, такая система потребовала развернутой документации, учебных планов, сопровождения методическими кабинетами, направляющими развитие музыкальной педагогики и стыкующих науку с практикой. Все вместе это принесло в мир такое явление, как советский скрипач, который легко занимал места в лучших мировых оркестрах и щелчком сшибал конкурентов с пьедесталов почета международных конкурсов в течение почти всего XX столетия.
Однако все понимают разницу между штучным изготовлением и серийным производством. Ни один из великих мастеров прошлого не похож один на другого, да и научились они, скорее вопреки несовершенной на тот момент методике обучения, чем благодаря ей. Их могучий талант преодолел все препоны. Во второй половине XX века исполинов сменила масса прекрасных специалистов, резко поднявшая уровень симфонического исполнительства, но понизившая планку солиста. Грамотно разработанная советская методика, охватывавшая, что особенно важно, раннее обучение скрипача, позволяла научить среднекачественной игре на скрипке даже тех, кому она почти противопоказана. Началось накопление высококвалифицированной безликой массы, постепенно проникавшей в образовательные учреждения и приходившей на смену ярким фигурам учеников и педагогических внуков Л. Ауэра. Да и время великих свершений, в общем-то, прошло. 60-70е годы XX века вели СССР в никуда. Великие мировые социальные идеи, требовавшие своего художественного осмысления в игре великих музыкантов, ушли в прошлое, уступив место углубленному интересу к личности (что вызвало к жизни такие совершенно внешне не связанные между собой вещи, как движение хиппи, бум камерных оркестров и зарождение целого направления аутентистов, отличающееся от классического не столько техническими заморочками с точными копиями старых инструментов и постановки, сколько иным типом экспрессии).
Затем из вдруг раскрывшегося Китая, скопировавшего советскую систему образования, посыпались прекрасные скрипачи, поначалу механистически беглые, но постепенно обретавшие выразительность. Благодаря интернету, мир стал маленьким — и продолжает уменьшаться по мере роста пропускной способности компьютерных сетей. Теперь каждый может зайти на youtube, посмотреть игру старых мастеров, оценить амбиции новых, вникнуть в мастер-классы лучших педагогов мира.
И тут хочется упомянуть еще одну перемену, роль которой не вполне поддается осмыслению: из скрипки ушли евреи. В этом нетрудно убедиться, посмотрев концертные афиши, в которых корейские, китайские и японские фамилии заменили еврейские. Э. Метнер мог бы быть счастлив: «все эти Осипы, Евсеи, Гриши и Миши» наконец, покинули мир четырех струн и пяти линеек и устремились в мир сменяющих друг друга цифр на биржевом табло или на экране монитора. Свойственная народу выживаемость и предприимчивость, в силу изменившихся социальных условий, переместила ареал его обитания – профессионального и территориального. Если еврейскому скрипачу времен черты оседлости скрипка давала право на столичную жизнь, скрипачу советского времени скрипка открывала дорогу за границу, практически, закрытую для большинства остальных профессий – то теперь этот немаловажный стимул совершенно исчез, вернее, переселился на Восток. Японский и китайский социумы, куда более ригидные, чем европейский, и традиционно достаточно неприветливые к женщине, породили огромное количество «культурных беженок», осевших в оркестрах Америки и Европы и заполонивших сцены.
К тому же, пресловутая «боль всего еврейского народа», в избытке генерируемая тысячелетней историей гонений, польско-украинскими погромами, породившими целое движение хасидизма, неслыханными доселе чудовищными преступлениями Холокоста, государственным послевоенным антисемитизмом соцлагеря — вдруг куда-то подевалась. В течение второй половины XX века евреи прочно утвердились на политической арене, получив свое государство, повсеместно добились полного равноправия, а по некоторым непроверенным сведениям, даже финансового превосходства, и ныне являются персонами non grata только среди поклонников мусульманского хардкора. Евреи, столько столетий стоявшие в стороне, влились в общую цивилизацию (еще некоторое время назад) и память об исключительных страданиях, хоть и существует в документах, забывается в характерах. Антисемитизм, так или иначе присущий культуре XIX века (не путать с бытовой ксенофобией и политическими установками), ушел вместе с ослаблением влияния христианства. Массовые погромы прекратились более 100 лет назад (5 поколений). Внутренняя необходимость красиво плакать кровью исчезает. К счастью или к сожалению, трудно судить, так как исключительные гонения рождали исключительную сопротивляемость — и понижение градуса борьбы, делая жизнь комфортной, грозит потерей исключительности «исключительного» народа. Конечно, ортодоксальный компонент никуда не девался, но не он поставлял скрипачей на все европейские сцены.
Поэтому и вопрос об «уходе» русской или русско-еврейской великой школы скрипки тоже нужно ставить системно. Не скрипач ушел, уходит необходимость в нем. Да, конечно, красивый звук, благородная интерпретация, сверкающая беглость пассажей была и будет востребована…, но не крик души стоит за прочувствованными нотами, не императив, владеющий личностью, а всего лишь требование профессии. И кто, как не супертрудоспособные, упорные и дзен — ориентированные китайцы лучше всех приспособлены к освоению этой профессии, весьма трудоемкой и требующей солидной стрессоустойчивости?
Вторая главная тенденция также глобальна. Промышленное производство скрипачей создало платформу для промышленного их использования. Индивидуальные, часто гениальные в своем роде импресарио сменились фирмами, заинтересованными, прежде всего, в получении прибыли. В условиях отступления слушательского спроса от высоких критериев недавнего прошлого, хороший восточный «no name» с парой конкурсов в биографии в качестве зацепки для раскрутки, 100% сценической стабильностью и, главное, невысокими гонорарами становится идеальным выбором. Хочется высказать предположение, что уже много раз упомянутый в статье Э. Метнер от такой перемены пришел бы в ужас, наверняка предпочтя «южные» страсти современным восточным, так как эта невероятно качественная мимикрия под чуждую культуру, тем не менее, не содержит зерна, способного продолжить род европейской мысли, и так разъедаемой мультикультурализмом. Мул потомства не дает.
Однако, мир не стоит на месте, есть и хорошие новости. Среди сегодняшних молодых скрипичных надежд довольно много детей, родившихся в браке разочарованных европейских отцов и внешне мягких и женственных экзотических восточных красавиц со стальной волей, продвинувшей их в Европу. Сочетая европейскую традицию с японской трудоспособностью, такие молодые скрипачи, пожалуй, могут дать 5 очков вперед всем окружающим. Кроме того, регулярно обрушаемые экономики стран бывшего соцблока, где советская скрипичная школа процветала совсем недавно, также поставляют на европейские сцены качественных скрипачей, вынужденных соответствовать также и европейским критериям выразительности.
Ведь, как уже упоминалось, скрипка по-прежнему в тренде. Да и искусство в целом не живет в отрыве от действительности, так как оно является её зеркалом и средством познания. Различные эпохи знавали различную степень кривизны этого зеркала, но в нем всегда отражаются требования, устремления и надежды нашего несовершенного мира. Ушли пламенные евреи, пришли волевые и прагматичные китайцы. После некоторого безвременья 90-х и нулевых, когда мир дружно гонялся за прибылью, опять пришли годы социальной напряженности, которая непременно скажется (и уже сказывается) в подъеме музыкальной культуры. Поэтому не стоит жалеть об ушедшей школе, на ее место непременно придет новая. Вот смогут ли современные российские скрипачи в нее вписаться или конкурировать с ней – это совершенно другая история.
_____________________________________________________________
1 http://berkovich-zametki.com/2009/Starina/Nomer3/Shtilman1.php
i Попытки возрождения еврейской народной музыкальной культуры, предпринятые после Холокоста, дали достаточное количество превосходных еврейских кларнетистов, но практически, ни одного скрипача, способного конкурировать с этой старой выцветшей записью.
Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев