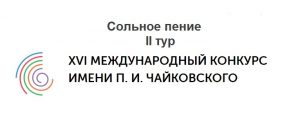 Итак, начался второй тур, полуфинал.
Итак, начался второй тур, полуфинал.
Первый день его был отмечен, во всяком случае, на мой взгляд, двумя событиями. Одно — связано собственно с конкурсом, второе — чисто художественного плана. Но сохраню интригу. Обо всем по порядку.
Расписание второго тура («пускай кажусь я старовером», как сказал Лермонтов, но не могу использовать к этом контексте спортивный термин «полуфинал»): 10 участников в день, по два прослушивания: в первом — трое, во второе — двое.
Итак, приступим.
Анна Викулина (Россия).
Гуно. Вальс Джульетты из оп. «Ромео и Джульетта».
Дебюсси. «Видение».
Бернстайн. Ария Кунигунды из мюзикла «Кандид».
Чайковский. «Канарейка».
Русская народная песня «Луговая».
В своем предыдущем отчете о ее выступлении я отмечал артистизм Анны, сегодня она подтвердила это. Мне тогда чем-то не приглянулись ее высокие ноты — признаю свою ошибку: во-первых, результат говорит об этом, а во-вторых, сегодня ничего подобного я бы не сказал.
Джульетта у Анны — не наивная девочка, в конце арии ее голос прозвучал даже как-то победительно. Что ж, во время этого вальса она еще не знает, какая печальная судьба ей уготована.
В «Видении» было впечатление, что героиня романса действительно что-то видит и рассказывает нам об этом.
Очевидно, как я бегу слова «полуфинал», так и организаторы конкурса пренебрегли «мюзиклом», заменив его в программе на «оперетту». Однако это совершенно разные жанры, и Анна продемонстрировала понимание именно мюзикла. Сперва ее исполнение показалось мне несколько академичным, но когда дело дошло до быстрой части, все встало на свои места. Невольно вспомнилось, как выигрывают современные балеты при исполнении танцовщиками, имеющими мощную классическую выучку.
«Канарейка» — история о том, что свобода лучше несвободы. Идея, хотя и, безусловно, верная, но не слишком оригинальная. Приятно, что в исполнении Анны заключительное слово «свобода» прозвучала мечтательно, а не назидательно.
Песня «Луговая» начинается весело, даже боль — и та без боли. Но потом все оказывается не так хорошо: любимый уезжает, не попрощавшись. Однако парень все же оборачивается, и девушка успокаивается. Анна передает настроение каждого эпизода без подтекста, как он есть: в веселом моменте — веселится, а в печальном — печалится, не намекая ни игрой, ни голосом, что́ будет дальше. Думаю, это именно тот эффект, которого хотел добиться автор, ведь грусть и радость оттеняют друг друга, а предварительная подготовка слушателя лишь снижает предстоящий эмоциональный эффект.
Александр Михайлов (Россия).
Берлиоз. Ария Иопаса из оп. «Троянцы».
Чайковский. «Средь шумного бала».
Плешак. Песня тенора из «Большой песенной симфонии» .
Русская народная песня «Вижу чудное приволье».
Свиридов. «Есть одна хорошая песня у соловушки».
Берлиозовская ария, рассказывающая о прекрасном гармоничном мире, послужила невольным вступлением к дальнейшему выступлению Александра, которое я бы назвал «Все грани русского характера».
В «Средь шумного бала» певец как будто сам не верит в реальность произошедшего: то ли была случайная встреча, то ли примерещилась она «в часы одинокие ночи». И вдруг в конце — именно там, где в литературном тексте подчеркивается сомнение: «кажется мне…» — голос его обрел твердость и уверенность: «люблю!»
Третья вещь, думаю, потрясла всех слушателей. Этот монолог о земле, пропитанной кровью, мог бы принадлежать кому-то из персонажей «Тихого Дона», да еще он усилен музыкой и был исполнен с душевной болью и вокальной мощью.
Так же мощно, но, конечно, совершенно в другом роде, прозвучала и «Вижу чудное приволье». А ведь поется в этой песне о той же самой земле. Этот контраст еще усилил впечатление от предыдущей песни и сделал следующую — выдохом облегчения после страшного напряжения. Однако облегчение было недолгим: Свиридов c Есениным рассказали, в сущности, о том же, но на личном уровне: в гражданской войне страна губит себя, а поэт-забулдыга так же поступает со своей судьбой.
Айгуль Хисматуллина (Россия).
Дж. Верди. Речитатив и ария Джильды из оп. «Риголетто».
Бриттен. Ария Титании из оп. «Сон в летнюю ночь».
Чайковский. «Колыбельная».
Дебюсси. «Пьеро».
Татарская народная песня «Сахралар».
Как и в первом туре, Айгюль продемонстрировала восхитительную легкость, естественность пения. Как будто нет ни системы, ни школы, просто вышла девушка и поет от души. Но как поет! По аналогии с предыдущим певцом я бы назвал ее выступление «Все грани колоратуры».
По поводу первых двух вещей готов покаяться перед читателями: я просто сидел и наслаждался тем, как в воздухе порхают звуки, и не анализировал их, чтобы потом с умным видом что-то здесь излагать.
А вот «Колыбельная»…
Здесь мы дошли до того, что́ я смею назвать одним из событий нынешнего дня. Насколько оно значительно, судите сами: состоялось, ни много ни мало, художественное открытие, сравнимое с открытием Козловским — Юродивого, Собиновым — Ленского, а Шаляпиным — Дона Базилио. До них эти роли многократно исполнялись, но никто не постигал их истинной сути. Так и здесь. Сколько раз мы слышали это произведение! Пять раз — только на этом конкурсе. И всегда оно исполняется светло, радостно, как разговор нежный матери с малышом, не желающим уснуть без сказки. Да я и сам не далее как во вчерашнем репортаже называл его веселой игрой. И вдруг оказалось, что это — поминальная песнь! И, как обычно, когда нам открывают глаза на что-то привычное, сейчас, после исполнения Айгуль, кажется: ну да, это же ясно, а как иначе? С какой стати мать взяла бы в няньки к живому ребенку ветер, солнце и орла? А если взяла, то почему они разлетелись во все стороны? Как минимум ветер-то качал колыбелочку — что ж он перестал этим заниматься? Да, он говорит: «Я дитя оберегал». Но, как выяснилось, не уберег! И совсем иным смыслом наполняются слова «Спи, дитя мое, усни…»
Две последние вещи продемонстрировали не только географическую и эмоциональную, но и стилистическую широту возможностей Айгуль.
Мария Мотолыгина (Россия).
Массне. Ария Саломеи из оп. «Иродиада».
Брамс. «Meine Liebe».
Чайковский. «Песнь Миньон».
Русская народная песня «Зимушка-зима» в обработке Цыганкова.
Вайнберг. Ария Марты из оп. «Пассажирка».
Во втором туре Мария продолжила вышивать свои вокальные кружева.
Ария Саломеи рассказывает о ее чисто духовном увлечении пророком Иоанном. Но совсем ли уж чистом? Появившаяся в конце арии чувственность — даже так: намек на чувственность — говорит, что не совсем.
Упоминаемый в песне Брамса nachtigall (соловей) как бы символизирует то, как заполнила зал своим голосом Мария.
Довольно оптимистично прозвучала у нее песнь Миньоны («Ты знаешь край…»). Во всяком случае «Туда с тобой // Хотела б я укрыться, милый мой!» она спела так, что сомнений в том, что ей это удастся, не возникло.
А вот где было предостаточно чувственности, так это в «Зимушке-зиме» и особенно в последнем «Э-эх!», выдохнутом певицей от всей души.
Понимая, что дар Марии — светлый, я с интересом ждал арии из «Пассажирки». Но она осталась верна себе: да, там идет разговор о смерти, но именно — о светлой смерти.
Предсказания и тем более советы — дело неблагодарное, но думается, что Марию ждет успех в партиях таких жизнерадостных композиторов как, скажем, Россини и Доницетти. И, пожалуй, Прокофьева.
Глеб Перязев (Россия).
Доницетти. Ария Раймонда из оп. «Лючия ди Ламмермур».
Шуберт. «Двойник».
Чайковский. «Ни слова, о друг мой».
Русская народная песня «Ах ты, душечка».
Петров. Ария царя Петра из оп. «Петр Первый».
Когда смотришь на Глеба во время пения, кажется, что он разгоняет руками по залу музыкальные волны — волны, возданные его голосом, мощным басом. А если это еще и музыка Доницетти, эффект получается великолепный.
В «Двойнике» певцу удалось создать ощущение, что перед ним возникло некое ужасное виде́ние. Голос его то становился тише, то опять нарастал, пока рассказ не завершился вскриком ужаса. А романс Чайковского он начал с тихой грустью, и после короткого эмоционального всплеска печаль снова затопила его.
В народной песне не было никакого ухарства, не зря о ее герое и его подруге высказываются вполне скромные предположения, что это — то ли муж с женой, то ли брат с сестрой.
Ну и наконец Петр Первый. Начать с того, что, за вычетом бороды, певец просто-напросто похож на царя. Но он доказал, что это сходство — не только внешнее. Слушая его царя, становится понятно: да, этому человеку и впрямь по силам «как корабль, всё заново перестроить». Причем «всё» — это не фигура речи, а действительно весь мир. Удалось передать и нетерпение Петра: при его призыве «Скорее в путь!» кажется, что он, в самом деле, прямо сейчас сорвется с места и отправится в дальнюю дорогу.
Савинкова Екатерина (Россия).
Римский-Корсаков. «Сон в летнюю ночь».
Беллини. Сцена и ария Имоджене из оп. «Пират».
Русская народная песня «Лучинушка», обр. Саниной.
Чайковский. «Скажи, о чем в тени ветвей».
Петров. Плач Анастасии из оп. «Петр Первый».
Вот где было предостаточно страсти, причем самой что ни на есть эротической!
Романс Римского-Корсакова прямо говорит об этом, и Екатерине прекрасно удалось передать, как девушка «вся дрожит… распустилась коса…»
Зато в беллиниевской арии сквозь все переживания обезумевшей Имоджене просвечивает то, что вне зависимости от перипетий сюжета это bel canto — прекрасное пение!
Героиня «Лучинушки» рассказывает о том, как лучина, то ли залитая водой, то ли затоптанная злой свекровью, не горит. Но слушая Екатерину, ясно: внутри этой лучинушки огонь еще как сохраняется и, пожалуй, рано или поздно спалит избу вместе со свекровью и ею самой!
В романсе Чайковского слово «любовь» повторяется семь раз в разных падежах. И семь раз певица произнесла его по-разному!
А что же, когда любовь убивают? «Тоска неизбывная» слышалась не только в словах, но и в голосе Екатерины во время плача Анастасии.
Куприянов Владислав (Россия).
Чайковский. «Нет, только тот, кто знал».
Свиридов. «Невеста».
Мур. Ария Горация Табора из оп. «Баллада ребёнка Доу».
Верди. Ария Ренато из оп. «Бал-маскарад».
Русская народная песня «Эх, Настасья».
Владислав очень тщательно доносит до нас своим красивым баритоном каждое слово, прочувствованное им. Он то объясняет, что ощущает познавший свиданья жажду, то рисует в деталях картину похорон несчастного литератора и идущую за гробом невесту.
С не меньшим проникновением в то, о чем он рассказывает, ведет певец и разговор на английском.
Его Ренато полон решительности. Ни малейшего колебания! И даже страдание, которого он не скрывает во второй части арии, ничуть не может поколебать его уверенности в своей правоте (которая, кстати, как мы знаем, есть результат поспешных выводов).
Народную песню Владислав спел так, как должен петь любимец публики. И эта его уверенность публике передалась!
Ставракакис Александрос (Греция).
Чайковский. Романс «Подвиг».
Шуберт. Баллада «Лесной царь».
Мусоргский. Монолог Бориса из оп. «Борис Годунов».
Стравинский. Ария Тома из оп. «Похождения повесы».
Греческая народная песня «Я сказал тебе и говорю снова».
Вот и еще одно событие дня! А именно: определился первый претендент на приз зрительских симпатий. Хорошо аплодировали многим, не раз раздавались и крики «Браво!» В иных случаях, хотя аплодисменты посреди программы запрещены, само дыхание зала выражало восторг. Но Александрос оказался единственным, кому не просто аплодировали, а не отпускали со сцены.
Чем же он заслужил такую реакцию?
В своем рассказе о предыдущем выступлении Александра я отметил сдержанность его исполнения. Неужели это был тот же певец?! Я даже пересмотрел его запись с первого тура. Так и есть — сдержанное благородство, минимум внешних проявлений чувств. И вдруг — совершенно противоположная картина! Каждая вещь, исполненная им, превратилась в яркую сценку. Мы словно воочию видели не только певца, рассказывающего нам некую историю, но и саму историю.
В романсе Александр передает всю тяжесть подвига смирения, почти невозможность его свершения.
Замечателен «Лесной царь»: у певца четыре разных голоса — рассказчика, лесного царя, отца и ребенка. Хотя нет, есть еще и пятый — тот, которым он завершает рассказ, произнося «Tod» («Смерть»)!
Годунов, с мудрым спокойствием начинающий свои размышления: «Достиг я высшей власти», — очень быстро теряет контроль над собой. И тут начинается невообразимое кипение страстей! Какая разница с королем Филиппом из первого тура! Казалось бы, два монарха, оба не очень счастливы. Почему же одному удается даже наедине с собой сохранять маску хладнокровия, а второму — нет? Не потому ли, что внутренне Филипп искренне считает себя во всем правым, а Борис знает, что в основе его власти лежит преступление? Обещаю: если мне доведется говорить с Александросом, я задам ему этот вопрос и поделюсь ответом с вами. Кстати, он прекрасно говорит по-русски.
Джил Бьонг Мин (Республика Корея).
Рахманинов. «Не пой красавица при мне».
Вебер. Ария Каспара из оп. «Вольный стрелок».
Стравинский. Речитатив из оп. «Похождения повесы».
Иль Нам Чан. Корейская народная песня «SingosanTaryeong».
Чайковский. «Серенада Дон Жуана».
В прошлый раз я усомнился в том, что певец в полной мере проникся глубокой философией «Благословляю вас, леса!» Сегодня обе русские вещи прозвучали с полным проникновением в текст, объяснением чему, может быть, служит их более простой смысл.
Слушая арию Каспара и вспоминая Дона Базилио из первого тура, я подумал о том, как прекрасно певцу удаются образы негодяев! А речитатив из «Похождений повесы» показал, что для создания образа он может прекрасно обходиться без красивого мелодического оформления.
Необычной показалась мне «Серенада Дон Жуана». Как правило, ее основной куплет демонстрирует лихость героя («Всех зову на смертный бой» и прочее), а рефрену достается лирическая грань его души. Джил Бьонг Мин перераспределил эти составляющие: так, в словах «Песнь и кровь свою отдам» звучит смиренная мольба, а просьба выйти на балкон превращается во властное повеление. Довольно точная трактовка: в душе Дон Жуана, наверно, действительно, все чувства — вперемешку.
Ким Гихун (Республика Корея).
Чайковский. «Нет, только тот, кто знал».
Шуберт. «Бравому Кроносу».
Ким. Корейская народная песня «Тоскующее сердце».
Дж. Верди. Ария Ренато из оп. «Бал-маскарад».
Гланерт. Ария Калигулы из одноим. оп.
Романс Чайковского прозвучал необычно нежно, без привычного напора страсти.
В песне Шуберта описана целая жизнь, и это певцу удалось передать: начал он с улыбкой, оживился, когда дело дошло до встречи с девушкой, а потом возникло некое напряжение, связанное с близостью конца. К счастью, Гёте, а вслед за ним и Шуберт ограничились только намеком на конец, но не довели свой рассказ до логического завершения.
Если бы в программе не был опубликован перевод названия народной песни, все равно мы бы почувствовали тоску в том, как она была исполнена.
И еще один Ренато. На этот раз видно, какого труда ему стоит не убить Амелию. Он не просто решителен, а упивается своим гневом, его переполняет ненависть. И тем сильнее его жалость к самому себе: когда доходит до воспоминаний о том, как его предали, в голосе слышна слеза.
На обостренном нерве прошла и ария Калигулы.
Посмотрим, что нам принесет второй и завершающий день второго тура!
Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев