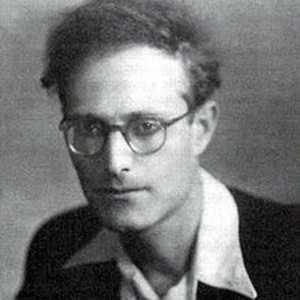 Вторая мировая война принесла человечеству страшный, но бесценный опыт, в полной мере продемонстрировав, какой ужасный лик способен явить человек. Этот опыт был осмыслен и воплощен в многочисленных музыкальных произведениях, исполненных антивоенного пафоса, созданных в первые послевоенные десятилетия. Одно из таких произведений – Симфония № 3 Александра Лазаревича Локшина.
Вторая мировая война принесла человечеству страшный, но бесценный опыт, в полной мере продемонстрировав, какой ужасный лик способен явить человек. Этот опыт был осмыслен и воплощен в многочисленных музыкальных произведениях, исполненных антивоенного пафоса, созданных в первые послевоенные десятилетия. Одно из таких произведений – Симфония № 3 Александра Лазаревича Локшина.
В психологически углубленной музыке Александра Локшина поэтическое слово всегда играло важную роль, и потому в его симфониях очень часто появляется вокальный элемент (если в творчестве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, например, вокальные симфонии выглядят исключениями, то для Локшина это правило: из одиннадцати симфоний, созданных им, лишь в одной – Четвертой – не участвуют ни солисты, ни хор). В третьей симфонии наряду с оркестром задействован солист-баритон и мужской хор (такой исполнительский состав обусловлен содержанием произведения, «действие» которого разворачивается на войне, но одновременно сумрачное звучание мужских голосов подчеркивает трагичность происходящего).
В качестве поэтического текста композитор избрал стихи английского поэта Редьярда Киплинга, в которых война предстает во всей своей неприглядности. В этих стихах нет воспевания героических подвигов – они кажутся подтверждением известной истины: в войнах побеждают полководцы, но не солдаты. Война описывается здесь глазами простых солдат, на чью долю выпадает не столько слава, сколько лишения, страдания и смерть – иногда смерть бесславная. Таково стихотворение «Денни Дивер» из цикла «Казарменные баллады»: герой баллады погибает не в бою, покрывая себя неувядаемой воинской славой – его предают позорной казни через повешение за убийство товарища (казнь совершается на глазах солдат – это «зрелище» призвано укрепить дисциплину). Не менее мрачная картина представлена в стихотворении «Сапоги» (известном также под заглавием «Пыль»), навеянном событиями Второй англо-бурской войны: трагическая безысходность звучит в бесконечно повторяющихся словах («День – ночь, день – ночь») – возникает мрачная картина бесконечного марша «в никуда», доводящего до безумия. Единственным проблеском света выглядит воспоминание о материнской любви (стихотворение «Матерь моя»). Особое место среди текстов, использованных в симфонии, занимает стихотворение «Песнь мертвых», строками которого начинается и завершается произведение, появляются они и в других частях: цели достигнуты, «Англия стала империей» – но это оплачено множеством жизней, и жертвам не видно конца («Жизнью надо платить за власть»).
Воплощая эти мрачные образы, Локшин не отказывался от тональной гармонии, но это не помешало создать ощущение давящей, удушающей атмосферы. Вокальные партии лишены песенности или ариозности – они имеют характер декламации. В первой части голоса хористов словно прорываются через «призрачную» звучность оркестра. Однако первая часть воспринимается как вступление, традиционной первой части сонатно-симфонического цикла в большей степени соответствует более протяженная и разнообразная по музыкальному материалу вторая. Ее текст – баллада «Денни Дивер» – казалось бы, располагает к созданию некого подобия оперной сцены, но композитор этого не сделал: ни хор, ни солист не идентифицируются с какими-либо действующими лицами. Хор периодически запевает припев в духе солдатской песни – но он обрывается, не находя продолжения. Партии хора и солиста организованы в форме строфической песни, в то время как оркестровая музыкальная ткань развивается постепенно, приводя к кульминации (моменту казни). Скрипичная каденция приводит к следующей части – мрачной картине безостановочного марша. Фактура оркестра, сопровождающего хор, предельно аскетична, но в центральном разделе, где хор замолкает, оркестр живописует впечатляющую «картину» страдания. В четвертой части возникает образ матери, которая любит своего сына всегда, даже если он обречен на вечное проклятие – эти стихи печально и величественно интонирует солист на фоне медленно движущегося оркестрового сопровождения. Заключительная часть – проникнутый чувством безнадежности хорал, в котором хор вновь и вновь возвращается к одной мелодической фразе.
Путь Третьей симфонии на сцену оказался нелегким (впрочем, такова была судьба большинства произведений Александра Локшина). Роковую роль в ее судьбе сыграло отношение к Редьярду Киплингу, который в то время рассматривался в СССР как «идеолог империализма». Прошло несколько лет с момента ее завершения, прежде чем появилась надежда на ее исполнение. Премьера планировалась в Москве, дирижировать должен был Рудольф Борисович Баршай – большой друг Александра Лазаревича. Но не успел дирижер приступить к репетициям, как художественный руководитель Московской филармонии распорядился исключить произведение из репертуара (такое решение было объяснено «идеологическими причинами»). Баршай не терял надежды повлиять на руководителя (все-таки тот был музыкантом!) и убедил его прослушать симфонию в исполнении автора на фортепиано. Художественный руководитель на это согласился, Локшин сыграл произведение в его присутствии, и начальник признал достоинства этой музыки, глубоко впечатлившей его, но это никоим образом не повлияло на его позицию. Правда, он предложил композитору компромисс: пусть какой-нибудь советский поэт заново переведет стихи Киплинга, заменив Африку Вьетнамом, а британских солдат – армией США, но Локшин отказался (композитор понимал, что художественный руководитель делает это предложение в расчете на отказ, целенаправленно создавая непреодолимое препятствие). Премьера Третьей симфонии Локшина состоялась только в 1979 г., и не в Москве, а в Лондоне – ее исполнил оркестр ВВС, дирижировал Геннадий Николаевич Рождественский.
Копирование запрещено.

Пока нет комментариев