(Спойлер: и да, и нет).
… Сначала о внешнем: и всё же это праздник. Благодаря самому факту своего существования. Праздник полных залов, горячего участия и сочувствия, напряженного ожидания публики — на кого в этот раз обрушить накопившийся энтузиазм. Раз в четыре года мы собираемся вокруг Конкурса Чайковского, как на сверку неких внутренних часов. Знаменитая московская конкурсная публика. Чуть менее двух тысяч человек в БЗК, около 400 человек в МЗК, сравнимое количество в других залах – для десяти-пятнадцатимиллионного города много это или мало? Скорее мало, но все свои. Непредставимое в обычной жизни внимание, направленное на участников. Сплошь и рядом бывает, когда на предконкурсные обыгрывания приходит несколько десятков человек, и это на уже знакомых публике музыкантов, а на незнакомых и вовсе никто не придет, кроме друзей и родственников. И вот конкурс, тот же город, та же программа, и зал полон, и обсуждают едва ли не каждое движение. Понимаешь участников, для которых это становится на всю жизнь памятным. Горячечное внимание публики, должно быть, ударяет в голову – во всяком случае, тем, кому сопутствует конкурсный успех. Тем же, кому успех не сопутствует… им должно быть обидно, особенно при том, что проявления несправедливости практически неизбежны и, как бы это сказать, входят в условия игры. Как это ни печально, возможны трудно преодолимые моральные удары. Но жизнь идет вперед, и публика так же роится вокруг памятника Чайковскому, и едва знакомые люди окликают друг друга: ну как играл такой-то? – и те, кто случайно оказался рядом, оживленно включаются в обсуждение.

Фото: Александр Шапунов
Теперь о скрипачах. В стенах Малого зала – как насчет праздника, здесь, внутри? Нам ведь не дает покоя слава русской и советской скрипичной школы, и мы тоже ждем, не появится ли новый властитель скрипичных дум. Лучше, если это будет наш — чудом, откуда ни возьмись, несмотря на то, что «школа уже не та» и «все уехали», но мы равно готовы приветствовать и не нашего. Интересно при этом, что скрипичных прорывов, сравнимых по резонансу с фортепианными, на конкурсе Чайковского за всю его историю, пожалуй, не случалось. Были прекрасные скрипачи, но чаще всего это были «наши» и поэтому уже знакомые, но так, чтобы ниоткуда появился и всех переиграл – такого не припомнить. Между тем публика скрипичного конкурса отборнее, чем фортепианного: во всяком случае, аплодисментов между частями, как по соседству в БЗК, здесь не случается, так что ждем мы с полным знанием дела. И нельзя сказать, чтобы совсем напрасно — даже если абсолютного властителя дум не видно, драгоценные минуты чистой радости все равно бывают.
Хотелось бы, конечно, чтобы это были не минуты, а часы и даже больше, но, к сожалению, на втором туре оказалось досадно много ученической по качеству игры, главный признак которой с ремесленной стороны – это то, что можно условно назвать отложенной атакой, когда нота окрашивается не в момент своего возникновения, а чуть позже, и первые несколько сантиметров идущего смычка – какая-то слепая зона без эмоциональной нагрузки. Это бывает, по большей части, когда смычок идет вниз, и происходит от того, что из-за необходимости манипулировать весом скрипач неуверенно себя чувствует в начале движения; однако через несколько наносекунд оказывается, что нота — никакая, внутренняя музыкальность требует выхода (ведь бездарных людей на конкурсе такого уровня нет), и тогда вся энергия окраски идет не в правую руку, а в левую, в вибрацию: получается вибрационный пузырь, от которого даже может исказиться (и часто искажается) высота ноты. Да, подмена звуковой плоти вибрацией, очень распространенная болезнь даже у неплохих в остальном игроков. В большом количестве эти пузыри создают неряшливое впечатление и сильно удешевляют звучание.

Елена Таросян. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Кто оказался совершенно свободен от этого недостатка в звукоизвлечении – это Елена Таросян (буду говорить о людях, прошедших в финал). По двум турам она видится одним из главных претендентов если не на победу в конкурсе, то на одно из высших мест: не так уж часто в теперешнее время можно слышать настолько качественную игру, и это просто не должно остаться без награды. Раньше Елене была свойственна несколько излишне силовая манера – та, которую ревнивый к скрипичной славе Петербург, когда хочет выругать, называет «московской», и было очень приятно увидеть, что она практически избавилась от неё: скрипач растёт всю жизнь, если занимается, и особенно после того, как закончит консерваторию. Всё шло исключительно гладко, даже порою как бы слишком гладко – что называется, «по-конкурсному», и разве что в Интродукции и Рондо-каприччиозо Сен-Санса, последней пьесе программы второго тура, Елена в знаменитой коде прошла по совсем тонкому льду с риском крушения — такой был схвачен темп, но выстояла. Хотелось бы больше индивидуального нерва, но, возможно, всё ещё впереди; у неё всё есть для артистического роста после конкурса, на свободе от стресса.

Равиль Ислямов. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Равиль Ислямов, что касается этого индивидуального нерва, просто фонтанирует, особенно в музыке импровизационного характера: недаром последними произведениями и в первом, и во втором турах были оперные парафразы – Фролова на «Порги и Бесс» и Ваксмана на «Кармен». Равилю до крайности идет эта импровизационность, в которой он как рыба в воде – здесь у него, что называется, вяжутся все узлы и общее впечатление получается буквально ослепительным, особенно вживую, в зале. Малый Зал ангельски комплиментарен к струнным, он прощает небольшие несовершенства, несет звук, обволакивает им – этот эффект можно оценить, сравнив живые впечатления с записью трансляции; микрофон же на скрипичном конкурсе беспощаден, раздевает безжалостно, и, вероятно, даже преувеличивает. В таком увеличении становится заметнее, что Равиль все же несколько жестковат. Случаются и шкварки, и мелкие происшествия, но сила харизмы такова, что ухо прощает это всё охотно, даже с радостью, как признаки того, что игра происходит прямо здесь и сейчас, а не состоялась когда-то в прошлом и теперь только воспроизводится.
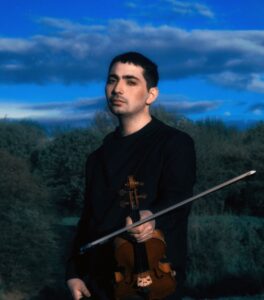
Даниил Коган. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Обволакивающие и несущие свойства Малого Зала оказались как нельзя к лицу и Даниилу Когану, который в лучшие моменты достигал в звучании настоящей обольстительности: на первом туре в поэтичнейшей под его смычком «Элегической поэме» Изаи, во втором туре в «Меланхолической серенаде». Кроме того, ему единственному удался тот эффект в Первой сонате Прокофьева, в дымчато-призрачной третьей части con sordino, когда скрипичные терции кое-где можно «вмешать» в фортепианную ткань до полной неразличимости тембров – это едва ли единственный пример во всей камерной скрипичной литературе. Знаменитые гаммоообразные пассажи в крайних частях – шелест кладбищенской травы, шевелимой ветром – вышли хуже, но live они и действительно практически неисполнимы в том виде, как этого требует внутреннее чувство: чувство требует, чтобы было и артикулированно, и в то же время «без пальцев», иначе трава не зашелестит. Плюс ещё смена струн, и в результате картинка возникает с искажениями. По этому описанию можно было бы заподозрить (в хорошем смысле) Даниила в преимущественно лирической природе его музыкальности, но финал сонаты Прокофьева доказал, что это не совсем так: разыгрались с пианисткой (Анна Тамаркина) не на шутку и финал вышел страшным в стиле инфернальных эпизодов из квартетов Шостаковича, плюс интересные причитающие эффекты в речитативных местах.

Ло Чаовэнь. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Ло Чаовэнь (Китай) заслужил быть в третьем туре за одну свою Фантазию Шуберта, за дивную гибкость звука, когда нота расцветает в середине смычка, будто повинуясь одной силе мысли, и так же гаснет плавно, точно уходя в темноту; за чудесную, сладчайшую, теплейшую тему «Sei mir gegrüβt», и за мастерски выстроенное длинное crescendo, приводящее к ослепительной до мажорной кульминации (с crescendo, кстати, у многих участников были проблемы на втором туре в сонатах, когда звук реально возрастал только у фортепиано, а скрипач в это время скорее только выражал всем собой намерение, ничего для его воплощения не делая – так вот это не про Ло, у него все в порядке было с этим, а это очень, очень непросто).

Ким Ке Хи. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Выступление во втором туре Ким Ке Хи (Ю.Корея) шло по нарастающей. Первое произведение в программе – жизнерадостная Соната Бетховена №1 – заметно страдало от «синдрома отложенной атаки» (который особенно неуместен в венской классике, он размягчает её здоровую упругость), плюс можно было быть и тоньше в ансамблевом взаимодействии, подхватывая у ф-но артикуляцию и нюансы; пьеса Крейслера уже шла с огоньком и изяществом, соната Грига заставила уважать себя повышенной эмоциональностью, а Этюд в форме Вальса прямо блеснул – и грацией, и качеством.

Цзян Иин. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com
Отбор для третьего тура Цзян Иин (Китай) у меня лично вызывает больше всего вопросов, и именно из-за бесконечных вибрационных пузырей, снижающих класс ниже допустимого. Мой кандидат на финал – непрошедшая Александра Ли (Россия), у которой их не было, плюс превосходная гибкая кантилена и теплота в «Размышлении» Глазунова, плюс лихость и женственность одновременно в «Вариациях на оригинальную тему» Венявского – это те самые минуты радости, за которые так ценишь происходящее. Такие минуты были и в выступлении словенца по имени Залетел Чернош Рок, в общем малоудачном, но с невероятно трогательным и трепетным Вокализом Рахманинова, где даже пресловутая вибрационная болезнь оставила его на время: сильная звукотворческая воля, бывает, побеждает недостатки игрового аппарата. Чуткий зал немедленно это оценил, и это тоже было приятно: по времени это было уже после десяти вечера, в конце второй сессии последнего дня на втором туре, и слух мог бы уже и замылиться, но нет, мы готовы оценить настоящую удачу, пусть даже эпизодическую.
Порядок, в котором описаны скрипачи – это мой личный рейтинг по убыванию; неотъемлемая часть конкурсной атмосферы – самому поиграть в жюри. Возможно, только Ислямова, по искренней музыкантской симпатии, я бы поставила на первое место. Посмотрим, что и кого предпочтет жюри после выступлений с оркестром. Удачи всем в третьем туре!

Пока нет комментариев