С 29 ноября по 14 декабря в кинотеатре «Звезда» прошел фестиваль «Панорама».

Фильмом -открытием стал «Не подумай, что я кричу» Франка Бовэ. Это фильм и одновременно это еще 260 фильмов, из коротких, не дольше нескольких секунд фрагментов которых, режиссёр и соткал полотно для своего опуса. Так Бовэ находит способ, работая в жанре исповеди, составить своего рода манифест синефила.
Кадры из фильмов повторяют или комментируют события из личной жизни режиссера. И наложение это двойное, поскольку все эти события разворачивалась параллельно просмотру кино – причем за промежуток около 4 месяцев, Бовэ посмотрел не 260, а целых 400 фильмов. Повествуя о своем одиночестве, среди народа в глуши, или среди буржуа в большом городе, режиссер активно прибегает к приему метафоры, драматизирует свои переживания стилизованными под литературные тропы сравнениями.

Поэтому «Не подумай, что я кричу», вполне можно рассматривать как произведение, имеющее отношение к визуальным искусствам, так и как эксперимент в области письма, тем более что как жанр — исповедь себя утвердила именно в литературе. А в совокупности это текст, в теле которого процессы обычного метаболизма рискуют обернуться мутацией жизненно важных органов.
Закадровый голос не умолкает ни на секунду, так что времени на отгадывание фильмов совсем не остаётся. Впрочем, создание ребуса вряд ли входило в планы режиссёра. «Не подумай…» — это «Тошнота» поколения torrent и wi-fi. И смотреть ее – опыт сродни интроспекции в сознание, одновременно искалеченное и живущее за счет этой искалеченности.
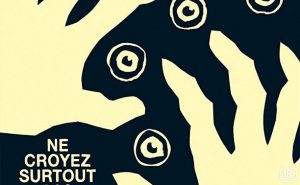
Таков синефил (или Тень любого синефила) – он отправляется скачивать фильм, будто идёт по зоне за сталкером, и пытается в структуре суггестивного образа обрести костыль для недостаточно ярких впечатлений обыденности. По крайней мере, если рассматривать «Не подумай, что я кричу» как текст, он кажется достаточно вялым, не дотягивающим до Годаровского стандарта письма о кино, более кинематографичного, чем оно само.
Демонстративность, с которой Бовэ выставляет напоказ свои самые сокровенные и темные переживания, нивелируется банальностью его стиля, зависимостью его речи от сложившихся в литературе традиций, приёмов описания чувств, даже выбора чувств для описания.
Впрочем, это еще не приговор. Бовэ, по основной своей специальности кинокритик и важный фестивальный отборщик. Возможно поэтому, находясь в состоянии депрессии, близком к самоубийству, он, оставшись с кино наконец-то один на один, наконец-то раскрывает фильм как заветную территорию.

Он запирает себя в кино, как в башне, стоящей посреди океана. Ему приходится додумывать океан, но башня спасает его небытия, а через люк в ее потолке, он наблюдает солнечный цикл.
Так что, в конце концов, это не кадры из фильмов дополняют и поясняют историю Бовэ, а это его история дает пример того, как можно дополнить кино, и намекает на то, что кино в этом не очень то и нуждается. Кино – это стихия, в каждом фильме есть архетипические образы. Маниакальность, с которой Бовэ проводит сотни соответствий со своим текстом и фрагментами из фильмов указывает на витальную связь между материей кадра, фантазией автора-режиссёра и самыми болезненными фазами эмоциональной жизни человека. Так автор уравнивается к персоне ангела-хранителя, всего лишь отдаленного от субъекта дополнительными слоями реальности на ту же самую дистанция между перстами — жутко громко и запредельно близко.
Копирование запрещено.

Пока нет комментариев