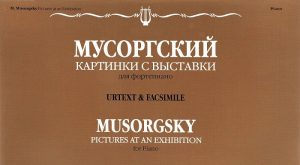
Искусство интерпретации, под которым понимается «художественное истолкование музыкантом-исполнителем музыкального произведения в процессе его исполнения», заключается в индивидуальной трактовке музыкального произведения и его личностном творческом осмыслении. Такой подход, как известно, сформировался в европейском искусстве примерно в середине XVIII в. в процессе отделения профессии исполнителя от профессии композитора, и продолжил развиваться в XIX в., с углублением в музыке индивидуального начала, с усложнением её выразительных и технических средств.
Если обратиться к традиционной музыкальной культуре, которая культивировалась в Японии более тысячи лет, то прежде всего необходимо отметить, что в ней отсутствует само понятие «индивидуальная интерпретация»; любое проявление личных эмоций и творческих предпочтений при исполнении того или иного музыкального произведения является скорее недостатком, чем положительным качеством. Музыкант, играя традиционное произведение, обязан оставаться в рамках канонов школы, к которой он принадлежит; чем строже следование этим канонам, тем «правильнее» исполнение. Таково условие существования традиции, таков регламент передачи музыкального знания от учителя к ученику; таково, в конечном итоге, необходимое условие существования традиции, которое, в свою очередь, является защитой от ее «размывания».
Японцы познакомились с западной классической музыкой лишь в 1870-х гг., после длительной изоляции от окружающего мира и в начале периода модернизации страны[1], когда начались процессы активного заимствования западного знания самого широкого спектра, в том числе в области культуры и искусства. Музыка военных оркестров, христианские гимны, школьные песни, — этими тремя музыкальными явлениями исчерпывалось на первых порах знакомство с западной музыкальной культурой; уже в процессе их заимствования стало очевидным разительное отличие западной музыки от японской традиционной. Позже, в 1890-х гг., когда японцы начали активно осваивать классическое западное музыкальное искусство как в консерваториях Европы и Америки, так и в самой Японии под руководством западных педагогов, проблема индивидуальной художественной интерпретации выявилась особенно ярко. Студенты, во-первых, не «видели» в музыке образов и красок, заложенных композитором; во-вторых, в силу одного из важнейших принципов традиционной конфуцианской морали – «уважение к учителю» – не смели проявлять во время исполнения собственную индивидуальность. Яркие эмоциональные состояния, диктуемые западной музыкой, были чужды японским музыкантам (а также их слушателям) еще и потому, что традиционная японская музыка не предполагает открытого проявления сильных чувств. Особенности японского музыкального менталитета, таким образом, становились ощутимым барьером в понимании западной музыки[2].
Становится объяснимым тот факт, что наибольшей популярностью у японского исполнителя и слушателя пользовалась западная программная музыка, ориентированная на визуализацию звука, на создание конкретных художественных образов. Слушателю понятно, о чем эта музыка, и ему легче воспринимать ее, несмотря на то, что она построена по иным, непривычным его слуху законам. Исполнителю легко представить в своем воображении яркие образы и характеры и воплотить их на клавиатуре или скрипичном грифе. Именно этим объясняется, на наш взгляд, непреходящая популярность цикла фортепианных пьес «Картинки с выставки» (яп. «Тэнранкай-но э»). Образы, запечатленные М.П.Мусоргским, – человеческие характеры, пейзажи, зарисовки городского быта, сказочные персонажи – легко проецируются на реалии японской жизни и органично воспринимаются японским слушателем[3].
Уточним, что цикл «Картинки с выставки», написанный М.П.Мусоргским в 1874 г. по мотивам рисунков В.А.Гартмана, в Японии, как и во всем мире, удерживает своеобразное «чемпионство» по количеству аранжировок и интерпретаций. Одной из самых популярных редакций цикла является аранжировка для духового состава. Надо сказать, что в Японии необычайно высока культура духового оркестра. Духовая музыка, попав в Японию еще до начала периода модернизации (1840-1850-е гг.) в процессе становления японской армии и реорганизации ее по западным образцам, быстро завоевала популярность в качестве нового для Японии жанра музыкального искусства. В настоящее время о популярности духовой музыки свидетельствует хотя бы тот факт, что каждый год во Всеяпонском конкурсе духовых оркестров участвует более 10 тыс. оркестров в шести категориях (начальная, средняя, старшая школы, высшие учебные заведения, компании и фирмы, общественные оркестры) и около миллиона музыкантов, уровень которых достаточно высок для исполнения сложных произведений. «Картинки с выставки» на этом конкурсе исполняются часто, причем руководители оркестров предлагают не просто отдельные номера, а перерабатывают их в небольшие попурри (яп. мэдорэ, искаж. англ. medley). Так, например, оркестр медных инструментов (яп. бурабан, искаж. англ. brass band) муниципальной старшей школы г. Касива исполнил компиляцию из «Прогулки», «Избушки на курьих ножках», «Катакомб» и «Богатырских ворот», подключив к исполнению расширенный состав ударных инструментов, а также 18 девушек с парными медными тарелками в руках, которые, расположившись на авансцене, «иллюстрировали» музыку различными групповыми движениями и перестроениями. Заметим, что японский зритель очень любит «оживление» концертов каким-либо действом, активно реагирует на сценический юмор, особенно музыкантский; поэтому театрализация концертов европейской классической музыки вещь достаточно частая (в отличие от концертов традиционной музыки, где очень строго соблюдаются исполнительские и организационные каноны). Любовь японцев к массовым зрелищам (синхронная маршировка, многофигурные гимнастические упражнения, танцы и т.д.), в сочетании с музыкой большого духового оркестра приводит к созданию настоящих мини-спектаклей, как, например, в выступлении данного коллектива.
Что же касается профессиональной сферы, то одним из самых удачных, на наш взгляд, является исполнение цикла Мусоргского духовым оркестром Tokyo Kosei Wind Orchestra. Оркестр создан в 1960 г. и считается одним из лучших духовых оркестров в мире; в репертуаре оркестра не только все шедевры мировой оркестровой классики, но и джазовые, популярные мелодии, музыка из кинофильмов и анимэ. Запись блестящего исполнения «Картинок с выставки» в аранжировке Марка Хиндсли была сделана в 1989 г. Отметим, что данный оркестр был образован по инициативе буддийского духовного ордена Риссё косэй кай, который известен также тем, что спонсирует вышеупомянутый Всеяпонский конкурс, а также Всеяпонскую ассоциацию духовых оркестров.
Исполняя «Картинки с выставки», японские ансамбли духовых инструментов по большей части руководствуются готовыми переложениями, сделанными европейскими, американскими, русскими музыкантами. Однако аранжировка цикла для гитары соло впервые была осуществлена и исполнена японским музыкантом. Это всемирно известный гитарист Кадзухито Ямасита (1961 г.р.), виртуозный исполнитель, композитор, автор блистательных переложений шедевров мировой музыкальной классики для гитары соло.
Впервые Ямасита сыграл «Картинки с выставки» на гитарном фестивале в Торонто 29 июня 1984 г., произведя настоящий фурор. Многие современные гитаристы исполняют «Картинки» в переложении Ямаситы (например, Ивао Судзуки), технически они делают это безупречно, но, на наш взгляд, никому еще не удавалось достичь того богатства звука и тончайшей нюансировки, которые мы слышим у Ямаситы. Так, например, во время звучания пьесы «Старый замок» создается иллюзия того, что музыкант не играет музыку, а рисует ее, — настолько свободно он использует для звукоизвлечения практически весь гриф, смело разнообразит тембры звука, сочетая в правой руке пиццикато и ногтями, и подушечками пальцев, перемежая с натуральными звуками естественные и искусственные флажолеты. Виртуозная техника пиццикато левой руки в сочетании с приемами правой руки позволяют Ямасите исполнять головокружительные по скорости и фантастические по выпуклости звучания пассажи в «Гноме», «Лиможском рынке», «Избушке на курьих ножках». Заключительные аккорды «Богатырских ворот» музыкант исполняет тремоло всеми пятью пальцами правой руки, что одновременно напоминает и звучание оркестра русских народных инструментов, и перезвон праздничных колоколов.
Интерпретация Ямаситы, таким образом, отличается абсолютной свободой трактовки, не ограниченной ни художественным мышлением, ни техническим мастерством, в сочетании с абсолютным же уважением к музыкальному тексту, написанному гениальным композитором. На наш взгляд, уникальность данной интерпретации состоит также и в следовании принципам японской традиционной музыкальной культуры. Так, в японской музыке культивируется отдельно взятый звук, а тембр звука является основным его отличительным качеством. На игре тембров построена, например, техника игры на японской 13-струнной цитре кото. На цитре играют костяными плектрами, но используют также и пиццикато подушечками пальцев, и различные шумовые приемы, и флажолеты, благодаря чему возникает большой спектр разнообразных окрасок звука, которые способные заменить нюансировку и динамику. Кадзухито Ямасита, привнеся в интерпретацию «Картинок с выставки» не только техническое совершенство, но и остроумную игру тембрами звука, создал, на наш взгляд, истинный шедевр мировой музыкальной культуры.
Интересно отметить, что музыканты, работающие в лоне японской традиции, также не оставляют вниманием гениальное творение Мусоргского. Автор статьи была свидетелем концертного исполнения нескольких частей «Картинок с выставки» – «Прогулки», «Старого замка», «Катакомб» и «Тюильри» – дуэтом молодых музыкантов в составе Фудзивара Додзана, играющего на бамбуковой флейте сякухати, и Синскэ, исполнителя на маримбе. Концерт состоялся в Осаке 12 июля 2012 г. в рамках гастрольного тура «Болеро» и включал в себя несколько аранжировок шедевров европейской классики. В этом необычном переложении «Картинок» вновь восхитили удивительные тембральные находки, позволяющие создавать необыкновенно яркие образы с некоторым японским акцентом. Так, исполнитель на маримбе использовал для звукоизвлечения не только традиционные молоточки с круглыми набалдашниками, но и барабанные щетки, и плоские кожаные «лопаточки», издающие таинственные, шелестяще-шлепающие звуки, и маракасы с длинными ручками, и даже браслет из бубенчиков, надеваемый на щиколотку. Флейтист варьировал флейты, звучащие в разной тесситуре – от высокой для «Тюильри» до низкой для «Старого замка» и «Катакомб». Мягкий, обволакивающий звук сякухати в сочетании с разноцветным калейдоскопом переборов, аккордов и тремоло маримбы явил неожиданную трактовку шедевра Мусоргского, схожую со звучащей иллюстрацией к волшебной сказке.
Конкретно этой записи нет; предлагаю фрагмент их интервью и выступления с другого концерта.
Наконец пришло время поговорить о совершенно новом прочтении «Картинок с выставки», осуществленном с помощью современных средств воспроизводства звука. С появлением и развитием электронной и авангардной музыки, с началом широкого использования в композиторском творчестве синтезаторов, сэмплированного и цифрового звука стал меняться и подход к аранжировке классических произведений. Новые звуковые эффекты, тембры, приемы, ставшие доступными благодаря электронике, существенно расширили композиторский язык и предоставили возможности для творческого переосмысления известных композиций. Не обошел этот процесс вниманием и знаменитый цикл Мусоргского, — «Картинки с выставки», рассказанные языком современной музыки, зазвучали совершенно по-новому, свежо и ярко, а временами непривычно и дерзко.
Так, родоначальник японской электронной музыки Исао Томита сделал две версии «Картинок с выставки», в 1966 и 1974 гг.; первую версию задействовал в своем творчестве анималист-авангардист Тэдзука Осаму. Художник творчески переосмыслил сюжеты пьес Мусоргского и совершенно изменил образы знаменитого цикла, которые в его представлении связаны с человеческими пороками и проблемами больших городов, с общим падением нравов современного общества. Осаму изображает в своем фильме некий вернисаж, на котором портреты узнаваемых людей, деятелей науки, культуры, политики – Авраама Линкольна, Зигмунда Фрейда, Альберта Эйншейна, Николая Коперника, Исаака Ньютона и, конечно, самого Модеста Петровича Мусоргского – соседствуют с изображениями героев, вернее, анти-героев сюжетов пьес.
Так, главным героем пьесы «Гном» выступает продажный журналист — безногий уродец, пишущий лживые статьи. В «Старом замке» любитель урбанистических пейзажей изгоняет из городов живые цветы и деревья, заменяя их безупречными муляжами. В «Тюильри» показана работа косметического хирурга, с легкостью перекраивающего физические недостатки пациентов, заменяя красоту души мнимой красотой искусственного тела. «Быдло» повествует о тяжелом, изнуряющем труде рабочих больших заводов и фабрик. Главный герой «Балета невылупившихся птенцов» – битник, стиляга, ведущий праздный, никчемный образ жизни в компании таких же стиляг. Боксер проводит свои бессмысленные бои на потеху публике в «Двух евреях, богатом и бедном», а капризная, манерная телезвезда становится кумиром и игрушкой толпы под музыку «Лиможского рынка». Дзэнский монах созерцает глубины духа в «Катакомбах» – но как понять, истинные они или мнимые?.. Грохот орудий и взрывов, яростные атаки солдат, убивающих друг друга во время жестоких войн под мрачную музыку «Избушки на курьих ножках» – и, наконец, величественные аккорды и перезвон колоколов «Богатырских ворот», проходя сквозь которые, бесконечная человеческая река (в которой видны и герои предыдущих портретов-историй), очистившись, устремляется вперед, ввысь, к свободе, к солнечному свету, к сиянию Вечности, Мира и Покоя…
Поразительно, но трактовка цикла японского художника во многом совпадает с исполнительской интерпретацией Марии Вениаминовны Юдиной, которая усматривала в «Картинках с выставки» не яркий лубок, не волшебную русскую сказку, а философское размышление о человеческой природе. В представлении М.В.Юдиной «Гном» – «это не только сказочный карлик. Это искажение человеческой – от начала благодатной – природы. Это – грех». В «Быдле» обнажена глубокая «проблема человечества, обреченного – хочешь не хочешь – работать в поте лица своего». Персонажи «Лиможского рынка» веселятся, торгуют, зубоскалят, сплетничают, смеются – но это те самые торговцы, которых Господь повелел изгнать из храма. Основной мотив «Избушки на курьих ножках» – борьба добра и зла, попытка злых сил устремиться вверх… В самом же цикле «столь велико в целом драматургическое напряжение, что мы полностью как бы сопричастны нравственным и физическим мукам героев, надеждам народа как единого лица, ужасу, неразрешимым противоречиям и коллизиям исторических катастроф. Однако даже на материале творчества Мусоргского мы не должны забывать, что неизбежно и неизменно остается тайна искусства и бытия».
Несомненно, сотворцом искусства японского анималиста Тэдзуки Осаму был композитор Исао Томита, творчество которого стало поистине революционным для своего времени. Первая версия «Картинок с выставки» 1966 г., основанная на авторской редакции самого М.П.Мусоргского, сохраняет фортепианную фактуру, воплощенную в синтезированных тембрах. Однако, создавая новую версию «Картинок» для записи 1974 г., Томита отходит от канонических вариантов оркестровки и стремится найти необычные, «неземные» звучания, смело микшируя тембры акустических инструментов с синтезаторными эффектами, используя ударные инструменты в качестве мелодических. Благодаря изобретению органа с динамичными клавишами появилась возможность регулировать мощь и глубину органного звука в «Богатырских воротах», а использование сэмплов певческих голосов («Быдло», «Катакомбы») позволило ввести в музыкальное повествование пение смешанного хора. Более того, Томита использует сэмпл голоса Ф.И.Шаляпина, взятый им с граммофонной пластинки, и «озвучивает» им «Прогулку», предваряющую «Балет невылупившихся птенцов». Сам же «Балет» решен с немалой долей юмора, представляя собой сценку на птичьем дворе, где слышится не только писк новорожденных цыплят, но и квохтанье курицы-матери, и мяуканье кошки, охотящейся за птенцами. Необычайно богатым на новые звучания оказывается «Старый замок», основная тема которого проходит в исполнении то тремоло балалайки, то колоколов, то синтезированного тембра, названного Томитой whistle — «свисток» (который в дальнейшем войдет в так называемый General midi, набор 126 стандартных звуковых сэмплов для синтезаторов и компьютеров). Интерпретация Томиты и его звуковые открытия, несомненно, предопределили развитие электронной музыки на много лет вперед и явились важной вехой в творчестве самого композитора.
Добавим интересное наблюдение. Сама идея «Прогулки» как связующей темы цикла и отчасти звуковой характеристики самого автора («Моя физиономия в интермедах видна» — писал Мусоргский Стасову) [6:535] оказывается неожиданно близкой традиционной японской музыке, в частности, музыке театра кабуки. В структуре спектакля кабуки сцена путешествия – митиюки – является одной из центральных и важнейших для понимания сюжета и характера героев сцен. Возможно, это случайное совпадение, но оно лишний раз доказывает, что глубинные законы развертывания художественного материала – будь то музыкальный, литературный, пластический текст – действуют во всех без исключения мировых культурах и видах искусства.
Завершить в рамках настоящей статьи разговор о роли бессмертного шедевра М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» в творчестве японских музыкантов хочется словами Юрия Келдыша, который считал, что в произведениях Мусоргского «рассыпано столько неожиданных находок, казавшихся его современникам просто «причудой гения» или «результатом технической неловкости», что для последующих поколений они послужат «источником новых оригинальных прочтений».
Клобукова (Голубинская) Наталья Федоровна
Кандидат культурологии
Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского
Литература и источники
- Абызова Е. Н. «Картинки с выставки» Мусоргского // М: Музыка, 1987.
- Гвоздев А.В. Некоторые вопросы музыкальной интерпретации // Уфа: Проблемы музыкальной науки, №2 (19), 2015. С.88-92.
- Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки // М: Советский композитор, 1978.
- Клобукова (Голубинская) Н.Ф. Музыкальная культура Японии в эпоху Мэйдзи (по дневникам о.Николая Японского) // М: Orientalia et Classica, вып. XXXII, 2010. С.297-316.
- Музыкальная энциклопедия // М.: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1981.
- Хубов Г.П. Мусоргский // М: Музыка, 1969.
- Чинаев В.П. «Картинки с выставки» Мусоргского // Интернет-ресурс http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=4785&page=4&p=131466#post131466. 02.02.2019.
- Юдина М.В. «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского // М: «Советская музыка», 1974, №9, С.96-98.
- Isao Tomita. Pictures at the Exhibition // Audio CD, 1991.
- Mussorgsky. Pictures at the Exhibition. Transcribed by Guitar solo by Kazuhito Yamashita // Audio CD, 1982.
- Tezuka Osamu. Pictures at the Exhibition. Animación Experimental De Tezuka // DVD, 2008.
[1] Этот период (1868-1912) именуется в японской истории эпохой Мэйдзи и характеризуется реставрацией императорской власти и всесторонним реформированием японского общества.
[2] Отголоски этого явления можно наблюдать даже сейчас, когда в Японии сформировалась своя национальная школа европейской классической музыки, со своими традициями, высшими учебными заведениями, всемирно известными композиторами и исполнителями. Современные японские музыканты, следуя на подсознательном уровне принципам конфуцианской морали, зачастую испытывают определенную несвободу в интерпретации западных классических произведений.
[3] Современные японские пианисты в плане мастерства художественной интерпретации шагнули далеко вперед. Автор настоящей статьи лично присутствовала на нескольких уроках, которые были даны по «Картинкам с выставки» профессором Московской консерватории Андреем Борисовичем Диевым студентке IV курса Токийской академии музыки Масэда Аяка. Ее интерпретация вопросов практически не вызвала, были сделаны замечания чисто исполнительского свойства.
Копирование запрещено.

Пока нет комментариев