Всему свое время,
И время всякой вещи под небом.
Екклесиаст 3.1
В Екатеринбургском театре оперы и балета Юрий Бурлака человек не новый. Прежде он осуществил здесь собственную версию классической сюиты «Наяда и рыбак». Поэтому очередное приглашение хорошо знающего свое ремесло и деликатного в общении с коллегами Бурлака было встречено коллективом театра – не только балетной труппы — с нескрываемым восторгом.
С годами Бурлака как творческая личность получил развитие, стал смелее. В нем окрепло «мужество художника», его дух. Эта окрепшая вера в себя обусловлена и другим обстоятельством: от простого понимания и восхищенного созерцания явлений искусства, Бурлака поднялся к совершенному знанию искусства — его истории, теории, законов жанра и практики. Сегодня можно лишь поражаться его эрудиции в области музыки и хореографии, цепкости памяти, хранящей в голове мельчайшие детали открытий и откровений предшественников чуть ли не с эпохи барокко.
На сей раз маститого постановщика старинных балетов призвали для воплощения на главной академической сцене Екатеринбурга балета «Дон Кихот».
Бурлака остановил выбор на версии Александра Горского, которую двадцатидевятилетний балетмейстер осуществил в Большом театре в 1900 году по сценарному плану Петипа, к явному неудовольствию последнего.
Творческому методу Бурлака чужды тенденции халтурного постмодернизма, к работе он подходит обстоятельно, вдумчиво, вооружившись самыми широкими знаниями и философскими обобщениями сведений о живописи, архитектуре, эстетике, музыке и танце, контекстами времени, наконец. При этом балетмейстер подчеркивает, что отнюдь не склонен выдавать свою постановочную работу за реконструкцию. Он не пытается поразить воображение специалистов декларациями возникшей некоторое время назад «реконструкторской» моды, но с исчерпывающей художнической честностью подчеркивает, что екатеринбургский «Дон Кихот» — это попытка «максимально собрать информацию о хореографическом тексте Горского и его вариантах». Раскрывает Бурлака и методологию своих поисков. В фокусе его внимания оказались партитура Минкуса, архивные источники, включившие кадры кинохроники, подробные печатные программы «Дон Кихота», старые эскизы декораций и костюмов, монтировочные снимки сцены, бесспорно, общение с артистами разных поколений. Все это суммировалось, позволив восстановить многие утраченные детали и мизансцены. К примеру, — финальный дуэт Китри и Базиля.

Пролог. «Комната Дон Кихота». Фото – Глеб Махнев
Бурлака убежден, что получивший профессиональное образование в Санкт-Петербурге, Горский и в Москве сохранил петербургский тип мышления, так что его Дон Кихот» 1900 года был компромиссом – «восторженным взглядом петербуржца на Москву». Бурлака придает большое значение «московскому духу» спектакля Горского. Верный канве Петипа, Горский, тем не менее, не мог отрешиться от впечатлений от оперных антреприз Мамонтова и Морозова, от художественных открытий Станиславского и Немировича-Данченко. Проявляя удивительную глубину знаний и художнической интуиции, Бурлака акцентирует используемые Горским атрибуты современного ему московского искусства. Так в балете появляется асимметрия танцевальных ансамблей, ведется более тщательная разработка характеров, по-новому используются элементы грима и костюма. Однако вглядываясь внутренним взором в произведение Горского, Бурлака идет еще дальше. Он делает убедительный вывод о том, что подобно тому, как в хореографии Петипа привычно усматривались впечатления от упорядоченности Версальского парка, архитектурных ансамблей и «небесной линии» Петербурга, на хореографические композиции Горского оказали также влияние асимметрия московских улиц, «нерегулярность города, всех этих кривоколенных переулков».
Так каким же был спектакль Горского? Представление о нем дает интервью с Х.П. Иогансоном, опубликованное «Петербургской газетой» при переносе московского «Дон Кихота» на сцену Мариинского театра в 1902 году. «От очевидцев постановки «Дон Кихота в Москве, — говорит Иогансон,- я слышал, что «оригинальность ее заключается в некотором реализме, например, сцена в таверне будто бы поражает массой движения; затем мне передавали, будто в этом балете вводятся для танцовщицы юбки, известные под названием «серпантин» и бывшие до сих пор принадлежностью цирковых и кафе шантанных артисток. Наконец, танцуют одновременно разные танцы, словом, видно больше погони за эффектами, чем за красотой, видно торжество реализма и упадок классицизма»[1] Заметим, что реализм рассматривается как отрицательное явление в балете, а спектаклю приклеивается ярлык «декаденства». Горский парировал: «Почему декаденство? Под декаденством у нас принято подразумевать нечто уродливое, между тем как я добивался в своей постановке только красоты».[2]

Картина первая. «Торговая площадь в Барцелоне».
Объясняя свои принципы, Горский говорил: «Симметрия в балете меня никогда не удовлетворяла. Да и в самом деле, разве Вы не согласны с тем, что скучно, когда видишь что на обеих половинах сцены проделывается буквально то же самое – тут, и там становятся в те же группы, танцуют те же «pas»… При таких условиях не стоит даже утруждать шеи, чтобы посмотреть, что делается на правой стороне сцены, ибо заранее знаешь, что это будет только буквальным повторением происходящего на левой стороне… Между тем, когда у меня направо танцуют одно, налево – другое, в глубине опять третье, зрителя интересует уже целиком вся сцена, получается и разнообразное зрелище и планировка выглядит картинной».[3]
Следуя за Горским, Бурлака составил музыкально-хореографический план спектакля. По нему отчетливо виден «львиный» процент Горского» в хореографической ткани балета, осуществленной Юрием Бурлака. Лишь в «Болеро» на музыку Минкуса из балета «Зорайя, мавританка в Испании» (к слову, выигрышно заменившем убаюкивающее «Трио с гитарами») и в танце Эспады на музыку Минкуса из балета «Бандиты» (вторая картина — «Испанский кабачок» — второго действия) появляется авторство Юлианы Малхасянц по мотивами Горского. Малхасянц — давняя соратница Бурлака, специализирующаяся на народно-сценическом танце и хорошо его чувствующая. Из «инородных вкраплений» лишь вариация Петипа из балета «Весталка» как дань традиции в картине «Сад Дульцинеи» и вариация Базиля (финальное pas de deux) в редакции Алексея Ермолаева для Владимира Васильева, которая со временем стала канонической.

Сцена из спектакля. Фото – Глеб Махнев
Когда-то «Дон Кихот» Горского раскритиковали за «толчею в ступе», «размахивание веерами и кастаньетами», за «пестроту» «чертей и лошадей, ослов и цветов»… Однако спектакль оказался жизнеспособным. Изначально он был задуман не как повествование о судьбе заглавного героя. Его фигура лишь объединила эстетику народно-сценического, классического и «испанистых demi-caractére» танцев, а также драматическую составляющую. Музыкальная и хореографическая стихии балета излучают оптимизм, а сам жанр балета-ревю обогатился столь редким качеством, как «комедийность», Именно это качество «Дон Кихота» как раз исчерпывающе выявил Бурлака своим спектаклем.
К сожалению, не все из задуманного удалось воплотить. Так, скорее, по техническим причинам постановочной части пришлось отказаться от указанной в программе пролога сцены заклеивания обоями книжного «шкапа». Теперь бакалавр Самсон Караско, заботясь о психическом здоровье сеньора Кехано (Кихотом он назовет себя позже), всего только запирает книгохранилище, что опять-таки вызывает в Кехано мысль о происках черта. Урезонить поэтическую фантазию этого безумца совсем не просто. Едва углубившись в чтение, он вновь рисует себе вполне ясные книжные образы Дамы и (Видение Дульцинеи) и Рыцаря Cеребряной Луны. И вот уже стерта грань между реальностью и бредом: откуда-то выползает устрашающих размеров паук, от наводнивших комнату чудовищ Дон Кихот вынужден спасаться, взобравшись на стол. То есть Бурлака восстановил пролог Горского во всех деталях.

Картина вторая. «Испанский кабачок». Фото – Елена Лехова
Бурлака раскрыл и музыкальные купюры, возникшие за долгие годы сценического бытования «Дон Кихота» на российских подмостках. Первая
связана с появлением плутоватого Санчо Пансы, Его перепалка с преследующими кухарками приобрела больший, чем обычно, масштаб. Кажется, Кехано и Санчо одной крови, ибо именно он предлагает Кехано, вообразившему себя благородным воином Кихотом («quijote» по-испански «набедренник»), заменить смятый шлем тазиком для бритья. Здесь звучит «Марш Дон Кихота» (tempo di marcia), некогда возрожденный в спектакле Юрия Григоровича в Большом театре.
Бурлака умеет наполнить живой жизнью средневековые городские площади. Это доказали уже его «Корсар» и «Эсмеральда». В «Доне Кихоте» мы видим, простолюдинов, поварят, цветочниц, маленьких уличных оборванцев, тореадоров, в облике которых нет и намека на привычную гламурную роскошь («взятые на подбор молодцы-танцовщики» тореадоры Горского заменили «грациозных» артисток-травести Петипа). Наконец, площадь взбудоражена прибытием странных наездников: оруженосец Санчо Панса на осле и нелепо худощавый идальго – его господин – на коне. Здесь театр несколько погрешил против первоисточника. Ослепительно-белый жеребец под седоком совсем не похож на некогда «гримированную лошадь». У Горского «грим» лошади состоял в том, что ее измазали вдоль и поперек чем попало, лишь бы была достигнута убогость, требующаяся от Росинанта».[4]
В Екатеринбурге копытных использовали максимально. Верхом Дон Кихот и Санчо Панса покидают городскую площадь. Кстати, здесь в партитуре рефрен «Сегидильи», позволяющий усилить комичную мизансцену (рефрен был написан Минкусом еще к первой постановке Петипа 1869 года, который Горский возродил в своем спектакле 1900 года). В ней танцующие мешают Лоренцо и Гамашу броситься вдогонку за Китри, убежавшей с Базилем, и незадачливые преследователи лишь смешно наталкиваются друг на друга.
В отличие от столичной версии, мы видим животных и в третьей картине («Среди мельниц»). А в шестой картине («Герцогская охота») верхом на том же коне, правда уже прикрытом богатой попоной, выезжает Герцог, супруга которого не очень корректно шествует рядом. Именно ей отвел Бурлака (по Горскому) роль приглашения забавных путников Кихота и Санчо на праздненство в родовой замок. Отсутствие второй лошадки и дамского седла Бурлака, снимая неловкость, обыграл мизансценой: знатная дама не семенит за наездником, а прогуливается по лесу в сопровождении кавалеров.
Но, не будем забегать вперед. В картине «Торговая площадь в Барцелоне» раскрыта еще одна музыкальная купюра, а с ней постановщиком возвращена драматическая мизансцена: «тореадоры делают попытку похитить наиболее понравившихся им девушек; в защиту последних выступают их родственники и поклонники». Следующим возрожденным музыкальным фрагментом становится скрипично-флейтовое соло, сопровождающее появление Дульцинеи-мечты. Приготовившись танцевать с Китри менуэт, Дон Кихот вдруг на мгновение воспринимает ее как даму своих грез. Но вознесшаяся над толпой «истинная» Дульцинея снова призывно манит Кихота, на мгновение, выводя его из реальности.

Картина третья. «Среди мельниц». Фото – Елена Лехова
В Урал балете Бурлака восстановил и не идущий в нынешней версии Большого театра лирический дуэт Китри с Базилем, с которого начинается «цыганская картина», Еще одно «новшество», или, точнее, возврат забытого: лопасти мельницы начинают вращаться, от нее отделяется видение Дульцинеи. Звучит незнакомая напряженно-тремолирующая музыка (подлинный Минкус). На диске луны Дон Кихот видит лицо Дульцинеи, из глаз катятся слезы. Луна выпадает из поля зрения Кихота, и он принимает это за происки великанов-волшебников. Начинается гроза, сверкающая молния усиливают всеобщее смятение. Стремясь защитить Дульцинею Дон Кихот кидается с копьем на перевес на мельницу, которую принимает за злодея-великана, но падает, раненный вращением лопастей. Обессиленному Кихоту вновь мерещатся пугающие образы, паук плетет огромную паутину, лесные феи творят свой грозный танец (возобновление оригинальной хореографии Горского). Лесные феи в танце рисуют образы популярного в начале XX века танца «Серпантин», придуманного американской танцовщицей Лой Фуллер.
В забытьи Кихот видит себя в райском Саду Дульцинеи. Четыре античные арфистки на заднем плане аккомпанируют танцу веселых амуров идиллических дриад, их величавой Повелительницы и самой Дульцинеи, на сей принявшей облик не средневековой красавицы, а вполне «балеринский».

Картина пятая. «Сад Дульцинеи». Фото – Елена Лехова
В сценической структуре пресловутая «асимметрия Горского», красивые скульптурные группы, графичные позы. «География» передвижений дриад также меняет рисунок, делает его особенно насыщенным и динамичным. Лейттемой становится ssissonne- ballonné- chassé — entrechat quatre . Если вариации Повелительницы дриад и Дульцинеи смотрятся вполне привычно, то двенадцати Амурам (Coda) добавлено несколько тактов, позднее исчезнувшего соло маленьких воспитанников Императорского училища. Затем их диагональное построение, совместно с кордебалетом дриад, «расцветающих» в port de bras, дополняет композицию фона grand pas de chat солисток. Одновременно у правой кулисы несколько дриад водят хоровод вокруг Дон Кихота. В конце концов, его голову венчают лавровым венком. И тут снова появляется Дульцинея-дама, манящая «победителя» в неведомые дали. А в реальности появившиеся егеря трубят в рога. Знатные охотники пересекают лесную поляну, на которой Санчо и Базиль уложили больного Кихота, а теперь взывают о помощи.
Даже погруженный в безмятежное веселье спектакля зритель, придирчиво следящий за сюжетом, тем не менее, не раз задастся вопросами. Главный — почему, Горский вольно или невольно создавший своим произведением жанр балета-обозрения, отвлекся от драматургически более выверенного либретто Петипа московской версии 1869 года (обращение к нему кажется куда логичнее), а использовал переработанную Петипа петербургскую версию 1871 года. Отсюда и более частные недоумения: как это Дон Кихот не узнает Базиля, который сидит с ним бок обок и странно увенчан короной (коечно больная фантазия героя может многое оправдать). Но как во дворце герцога столь же неожиданно оказываются Китри, (о которой зритель позабыл после дуэта с Базилем в начале третьей картины), племянница Кихота Антонина и Самсон Караско, которому отведена еще роль Рыцаря Серебряной Луны? Ответ один Горский чувствовал свое духовное родство с Рыцарем печального образа (параллели есть даже в личной биографии балетмейстера), и при всей своей тяге к правдоподобию и реализму легко предавался поэтическим мечтаниям. Балетмейстер, по-видимому, был более увлечен не драматургической стройностью повествования, а воплощением собственных хореографических идей. Другое объяснение в наивной театральности, свойственной спектаклям прошлого, одной из основополагающих задач которых была развлекательная эффектность. Так стоило ли удивляться появлению на празднике в замке уже знакомых нам амуров в хитонах и дриад в тюниках? Есть же шанс представить эволюции классического танца, эмоционально контрастирующие с народными плясками и не очень выгодно – с тяжелыми парчовыми одеяниями средневековых сеньор.
Бурлака (опять-таки по Горскому) подкинул работу солистам-мужчинам, сочинив классическую вариацию с испанским колоритом на музыку Александра Гербера для балета «Дон Кихот». Четыре юноши летают в grand battement jeté, разрывают воздух jeté entrelacé, «стригут» brisé dessus-dessous и entrechat six, ввинчивают pirouette, при этом своими передвижениями меняют общий рисунок танца.

Картина седьмая. «Дворец герцога»
Любопытно, как entrée и adagio Китри и Базиля хореографически поддерживает и обрамляет классический кордебалет уже знакомых дриад. Девушки то отдаляются от кулис в шагах- arabesques, то возвращаются к ним и здесь, на время застывают, то распределяются по диагонали сцены , опустившись на колено, демонстрируя выразительный épaulement. Сам Базиль умудряется посадить балерину после «рыбки» на плечо. По утверждению постановщика, это вариант, исполнявшийся Ольгой Лепешинской, не позднее 1935 года.
Вдруг происходит нечто неожиданное. В клетке на колесах вывозят прекрасную девушку. Это Китри. Конечно же, Дон Кихот кидается на помощь, но встречает сопротивление Рыцаря Серебряной Луны. Побежденный им, Дон Кихот вынужден дать клятву в течение целого года не обнажать своего меча. Так и не опознав Караско, снявшего шлем, и даже своей племянницы, Дон Кихот Ламанчский, как говорит либретто, отправляется к себе в деревню. В глушь кастильской Ламанчи (La Mancha. ). Вот и не надо мудрствовать, чтобы завершить эту историю, столь мало корреспондирующуюся с известнейшим гуманистическим романом Сервантеса. Другая задача!
В свое время критике подверглись не только Горский, но и работа художников: «Декорации Коровина и Головина по манере письма и по колориту представляют интерес новизны и вносят крупный раскол в область декорационного искусства. Отсутствие перспективы и употребление вместо красок грязи и сажи едва ли привьются к нашей сцене. Публике ни в коем случае эта серятина не понравится»[5].
Впрочем, писано это все тем же петербургским пером, уничижительно отрицавшим «московский привоз» и «отпечаток всего московского». Время доказало ошибочность подобных утверждений. Бурлака же, стремящийся к максимально возможному приближению к образу спектакля Горского, вновь обратился к подлинным эскизам декораций и костюмов. Так что сцена – лишь верхняя, видимая, часть айсберга этой почти научно-исследовательской работы. К ней балетмейстер подключил сценографа Альону Пикалову и художника по костюмам Татьяну Ногинову. Союз получился на славу! Пикалова занялась восстановлением декораций Константина Коровина и Александра Головина. Увы, на сегодняшний день в архивах не осталось ни одного макета, приходилось использовать живые впечатления от декораций Мариинского театра, черно-белые постановочные фотографии начала ХХ века из музея Большого театра, тщательно изучать технику, манеру письма художников-декораторов. Татьяна Ногинова кропотливо двигалась в направлении изучения эскизов костюмов Головина и Гурли Теляковской к постановке Большого театра 1900 года , подбирала ткани, опираясь на предшественников в собственном творчестве. Все получилось! Правда, пришлось учитывать размеры сцены. По мрачноватому колориту и интерьеру довольно убогое жилище Кехано совсем не напоминает просторы замковой архитектуры.

Картина шестая. «Герцогская охота». Фото – Елена Лехова
В картинке городской площади есть морская перспектива. Здесь не найти воздушных тюлей в нарядах толпы, даже подруг Китри или ее самой. Юбки женщин удлинены a la midi. А мужчины в средневековых колетах с рукавами-фонариками и штанах-буфах haut-de-chausses будто сошли с полотен Абрахама Блумарта или Франса Поурбуса.
Партитуру спектакля воспроизвел Алексей Богорад, А екатеринбургские танцовщики воплотили замысел балетмейстера. Но это уже отдельная тема.
- Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака. Фото – Татьяна Андреева
- Постановщики спектакля Татьяна Ногинова, Альона Пикалова, Юлиана Малхасянц, Юрий Бурлака на финальном поклоне. Фото – Татьяна Андреева
______________________________________________________________
[1] Петербургская газета. – 1902.- № 1,1 января, С.4
[2] Там же № 19.-20 января.- С. 4
[3] Там же. № 21.- 22 января. С.2-3
[4] Там же. № 26.-27января.С.9.
[5] Там же.
Копирование запрещено.

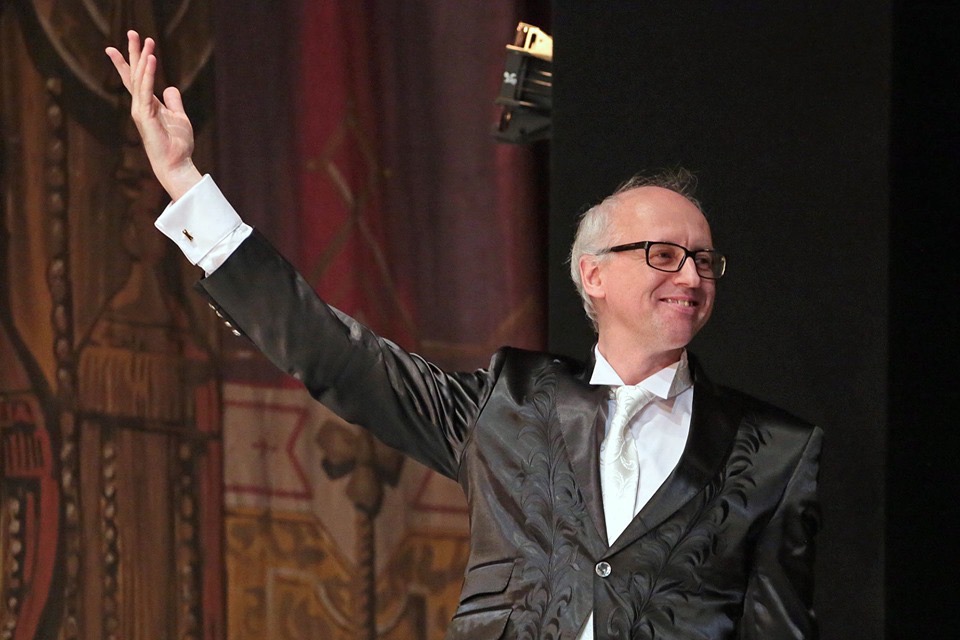

Пока нет комментариев