Некоторые художники, только окончив работу, предают ее результат забвению, сразу увлекаясь чем-то новым. Но бывает и так, что выраженная идея не желает отправляться в небытие и начинает доминировать над личностью автора. Так, немецкий философ Отто Вайнингер считал, что кульминацией его жизни должно стать ритуальное самоубийство во славу идеалистического концепта о гегемонии всего исключительного над всем обыденным. Посвятив систематизации этих идей свой единственный труд, он покончил с собой на месте смерти Бетховена.

Некоторые параллели с idea-fix Вайнингера можно проследить в судьбе китайского режиссера Ху Бо. Закончив свою дебютную работу «Слон сидит спокойно» и, получив требование от продюсеров сократить хронометраж, он увеличил его до почти четырех часов и покончил с собой. В итоге, в том году, «Слон» широкими шагами прошелся по главным фестивалям мира, снискав повсеместные похвалы своему уже почившему автору.
Тема самоубийства заявляется в сюжете практически сразу и завязывает первый узелок между пока разрозненными сюжетными нитями, описывающими приключения нескольких персонажей – двух юношей, сбежавших из школы, их одноклассницу, третируемую излишне сексуально активной матерью и старика, которого собственный сын собирается отправить в богадельню.

Где-то в символической тьме скрывается еще один персонаж – интерсубъективный образ – слон, который по легенде, прямо как Будда, сидит где-то в Манчжурии и не обращает внимания на все страдания мира. К нему то и мечтают отправиться наши «изгои» (героями их назвать пока сложно).
Интересно, как «Слон сидит спокойно», в очередной раз демонстрирует сингулярный потенциал азиатского современного киноискусства (см. Цай Минлян, Апитчатпонг Вирасетакул): в аккумулированном символами фильма синергическом потоке, растворяются течения из самых разных культурных источников.
Фильм, конечно, преемственен буддийской традиции. Но при этом, для всех его героев «жизнь прямо сейчас решается» в конфликтах, явно наследующих рефлексии в Карамазовском духе. В поэтике фильма, в свою очередь, очевидна рецепция европейского модернизма – так, механизмы, регулирующие масштабное мироустройство «Слона», напоминают принцип синхронизации, использованный в 10 главе «Улисса».

Каждая сюжетная линия в фильме наделена своим собственным, тщательно детализированным конфликтом, вначале незначительным, но постепенно все более многосложным. Постепенно, эти конфликты, начинают соединяться, сначала в очевидных, а затем все в более неожиданных стыках, соединяясь в хитросплетениях сюжетного древа – центральной нервной системе «Слона».
Ху Бо мастерски владеет алгоритмами синтеза. Но он также и алхимик. Собирая в дорогу своих персонажей-путешественников, медленно проходящих «Улиссо-становление», и готовя их к выходу в трансцендентное, он нисколько не торопится.
Ведь прежде чем встретиться со слоном, каждый из них для начала должен пройти через встречу со смертью. Поэтому, кстати, наименее насыщена событиями сюжетная линия старика. Вместо того, она насыщена, заметим в скобках, так же Джойсовским, аномалистским символизмом.
Продолжая аналогию, так же, как и космогонический проект Джеймса Джойса, «Слон», как мы заметили, уже обретший ЦНС, постепенно обрастает и органами. Его внутренняя конституция, вывернутая наружу, функционирует, завораживая зрителя, не замечающего, как элементы обыденности, обычные вещи, становятся поэтическими эквивалентами, способами референции между некрореализмом повседневности, отягощенной собственным весом, и надвременной созерцательностью.
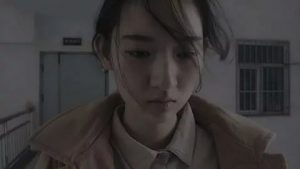
Этот фильм – череда разрастающихся апорий, медленно, но верно, поглощающих причинно-следственные связи. Похоже на то, будто тот самый слон, постепенно втягивает героев в свое собственное бытие. И герои идут на его зов извилистыми тропинками городских лабиринтов, встречаясь с затаившимися за поворотами химерами – школьными хулиганами, меланхоличными бандитами, сбежавшими собаками и прожженными директорами школ.
Внутри «Слона» нужно дышать, мыслить и наблюдать несколько иным способом, чем обычно. Этот фильм производит свой собственный кислород, формирует собственную атмосферу. И загипнотизированный зритель, должен следовать за каждым из героев, как Эвридика за Орфеем.
Ху Бо не добивается кратковременной идентификации зрителя с персонажами. Механизмы синхронизации у Джойса (и у Ху Бо) созидают единое поле, в котором преломление внешнего мира во внутренний и наоборот настолько фундаментально, что наблюдать его возможно изнутри него самого, одновременно отовсюду, с любого «невозможного ракурса».
Кстати, хоть и сложно судить, насколько 700 страниц «Улисса» равнозначны 4часовому хронометражу, но, действие обоих произведений охватывает ровно один день.
Мы следим за героями словно через телескоп, изучая их все подробней, и все в больших масштабах, пока не пониманием, что занимались топологией — и в художественных жестах Ху Бо удалось выразить, лишив его веса, панорамную картину сущего, готового к выходу в онтологическое.
Нерушимые законы связывают не артикулированные события в некую последовательность – и при этом мы чувствуем, что каждый следующий момент отнюдь не вытекает из предыдущего. Между будущим и прошлым – бескрайняя пустота. Она же заполняет расстояние между людьми в их внутреннем мире, отделяя их «Я» от них же самих. Как глубоководные рыбы, люди живут в сплошной тьме, освещая лишь крохотный клочок пространства перед собой. Вместо цельной картины универсума, они обладают лишь жалким полотном, сплетенным из разрозненных клочков субъективного эго-опыта. Поэтому люди в «Слоне» часто напоминают тени, глубинная мизансцена дается в расфокусе, а камера, точно приклеенная, дает ракурс со спины, сочетая взгляд героя со зрительским.

Однако гениальный художник, или человек, открытый метафизическому опыту смерти, может не просто заимствовать из их существования определенные сюжеты, но и раскрывать их в полном объеме.
Фабула «Слона» сложносочиненная и апеллирует сразу ко многим жанрам, и при желании, акценты можно было бы сосредоточить на одном из них и сократить фильм. И тогда бы Ху Бо был жив-здоров, и планомерно снимал бы по фильму в пару лет, и все это, походило бы, допустим на мрачного Вонга Кар-Вая.
Но вместо этого у нас есть уникальный фильм, в котором каждый из жанров, раскрывая свое нутро, разворачивается до конца, на наших глазах мутируя и формируя новые связи, в которых неожиданно сплетается с другой формой нарратива.
Исходя из этого в «Слоне» множество кульминационных сцен, работающих на пресловутый объем действа. Ху Бо прилагает значительные усилия для того, чтобы высвободить пространство, преобразовать пустоту в нечто, все еще нематериальное, но ощутимое, как свобода действия, мысли, возможность полета.
Наращивая эту область и сталкивая сюжеты, Ху Бо создает одну из самых незабываемых концовок, соединяющей воедино драму, комедию и криминальный сюжет в музыкальном по точности контрапункте.
Истинная, так скажем, пост-концовка, подымает созданный режиссером универсум из глубин котлована. Чтобы расслышать зов Бытия, надо всего лишь погрузиться в молчание и разыграть до конца предложенную условиями партию. Слон сидит спокойно, так и человек, забредает дальше всего, погружаясь вглубь себя и убеждаясь в том, что обыденное – и есть сама исключительность, и снимающая необходимость, как вопрошать, так и отвечать.
Герои, раздвоенные смертью, напоминают сакральную для Китая компанию из «Путешествия на Запад». А финальные сцены заставляют вспомнить притчу из «Дао Дэ-Дзин» о человеке, продолжающим играть в мяч, не обращая внимания на смертельную угрозу. Пожалуй, напрашивается вывод, что страх смерти – столь же европейская причуда, сколь и материал, из которого сделан тот мяч.
Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев