
«Заброшенный»
Проблема телесности в современном культурологическом дискурсе занимает важное место. Вчера мы рассуждали о фильме «Каниба», в котором образы плоти были призваны явить зрителю отчетливый слепок с внутреннего мира главного героя, принадлежащего современности и мифу в равной степени. Но в программе Международного фестиваля экспериментальных фильмов нашлись авторы, проводившие эксперименты над телесным медиумом радикально иными методами. Речь идет о новом фильме тайваньского режиссера Цая Минляна «Заброшенные», который был снят исключительно для демонстрации в шлемах виртуальной реальности.
Имя Цая Минляна гремело на всех престижных фестивалях с конца 90-х годов, и вовсе не без причины. Все, что имеет отношение к его кинематографу, будто было создано богом кино специально для него, как доспехи Гефеста для Ахилла.
Например, своего главного актера, Ли Кан-шеня, Цай снимает уже 28 лет, во всех своих фильмах, а тот был занят в чужих проектах считанное количество раз. Обычно его называют «музой» Цая, но похоже на то, что для режиссера Кан-шень это – реальное воплощение его собственного внутреннего гения, того самого демонического «другого», каким был Фауст для Гёте, Заратустра для Ницше и Василид для Юнга.
Фильмы Цая образуют континуум, объединенный, кроме Кан-шеня, сквозными образами, лирическими и экзистенциальными мотивами. Нельзя, строго говоря, назвать главного героя одним и тем же человеком. Но сюжеты, проживаемые Ли Кан-шенем на протяжении вот уже почти 30 лет, являются вариациями скрытых нарративов одной судьбы, – это галлюцинации об пространственном единстве человека и бытия, сны, мечты и фантазии кого-то, кто проживает свою жизнь в одиночестве, поглощенный чувством «заброшенности в мир».
Время и пространство в универсуме Цая – это не физическая данность. Это уникальный материал, и задача кинобразов снова сделать его пластичным, каким он является в промежутке между самостоятельным бытием и восприятием субъекта. Так, режиссер Апитчатпонг Вирасетакун сравнивал Цая с Нео из «Матрицы» именно из-за его способности останавливать время.
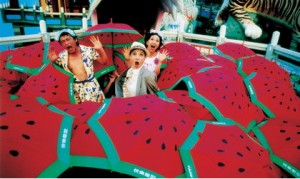
«Капризное облако»
У Цая есть фильм про кинотеатр, такой старый, что проекции в нем стали настоящими призраками. Другой фильм рассказывает про то, как тоска по родине образует пробоину в пространстве, через которую чемодан из тайваньского пруда приплывает в Париж – а все потому, что путешественник в последний момент купил на родине часы. Еще один – про то, как дыра в потолке может соединить два одиночества. В его «Капризном облаке» элементы порнографии соединяются с лихим мюзиклом и экзистенциальной драмой. В другом фильме человек умирает и его душа переселяется в рыбу – и зритель не просто верит в это, он чувствует достоверность события, посколько неизбежно дополняет недосказанности и поэтические ассоциации в фильме тканью собственного мышления.

«Капризное облако»
То, что чувствует человек, продолжается в облике места, где он живет, мысль изменяет видимую реальность, вещи и феномены теряют привязанность к одному локусу и обретают его в другом, или вовсе циркулируют во вневременьи. Жизненный поток течет как по руслу, сквозь человека, бесстрашно раскрывшего просвет бытия, что ведет к его исцелению. Все фильмы Цая именно об этом – мир заражает нас инфекциями, но в его же недрах находятся источники панацеи.
Поэтому человек и чисто человеческие, то есть, физические переживания, сливающие нас с нашей природой, так важны. Те, кто смотрели фильмы Минляна, могут с уверенностью заявить, что знают Ли Кан-шеня в таких подробностях, в каких не знают некоторых близких людей. В чем тут дело – в связи биографий актера и его героя, или в невероятной естественности, с которой он ощущает себя в мирах, созданных для него Цаем, однозначно сказать сложно.
Но очевидно одно – боль и удовольствие Кан-шеня, с какими бы физиологическим процессами они бы ни были связаны, передаются через камеру без искажений, будто происходят здесь и сейчас.

«Бродячие псы»
Жиль Делез предполагал, что каждый фильм, продолжаясь в закадровое пространство, обладает глубинным имманентным полем, сливающимся воедино с «жизненным потоком». В своем последнем полнометражном фильме «Бродячие псы» Цай буквально исчерпывает выразительные возможности кинематографа по интеграции по этой траектории своего героя, а за ним и зрителя. Он буквально изобретает киноискусство заново, используя необычную внутрикадровую композицию, то сжимая, то растягивая хронотоп и перемежая сны с реальностью. И это лишь малая часть задействованных в «Псах» художественных приемов. Так, например, все плоские поверхности фильма, начиная от лица Ли Кан-шеня и заканчивая картиной в заброшенном здании, гипнотизирующей героев, оказываются галлюциногенными и неумолимо ускользают от глаза, взывая к дополнительному спектру оптических возможностей человека, то есть к воображению.
Исходя из этого представляется абсолютно закономерным, что следующим шагом после «Бродячих псов» для Цая стала съемка фильма для просмотра в шлеме виртуальной реальности. Идея «Заброшенного» пришла в голосу Цаю во время их с Ли Кан-шенем отшельничества где-то в тайваньской глуши. Режиссеру стало казаться, что их абсолютное одиночество разреживает присутствие чего-то призрачного, бестелесного. Постепенно созрела необходимость выразить опыт художественно, и в том году состоялась премьера «Заброшенного» на Венецианском фестивале.
Поначалу, когда путешествие по ту сторону только начинается, можно предположить, что призраки – это кто-то из героев. В 56-минутном фильме нет речи. В 11-12 сценах мы наблюдаем за четырьмя действующими лицами: Ли Кан-шенем, его кухаркой, молодой девушкой и рыбой, той самой, в которую в одном из ранних фильмов Цая переселилась душа умершего отца протагониста.
Герои находятся в заброшенном здании, стоящем на самом краю джунглей. Камера чередует ракурсы, демонстрируя его из разных углов нескольких комнат – при обзоре в 360 градусов образ пространства становится уже не просто объемным, но сферическим. Также нам предстоит побывать в джунглях, и в одной ванне с Ли Кан-шенем и его рыбой.
Эпизоды, из которых складывается действие, можно изложить так: герой страдает от болей в шее (реальный факт из биографии Кан-шеня). Затем он идет в джунгли накопать червей. За ним из окна другой комнаты наблюдает девушка, которую посетитель «Заброшенного» обнаружит, когда оглянется назад. Мы оказываемся наедине с девушкой, пребывающей в волнении. Затем оказываемся в ванне с героем, все еще выглядящим удрученным, и рыбой. Начинается тропический ливень. Комнату начинает затапливать, и вдруг мы понимаем, что девушка теперь в одной ванне с героем – они занимаются любовью. Потом они лежат на одном матрасе и заливаются искренним громким смехом. Девушка уходит. Герой с аппетитом поглощает пельмени, приготовленные в самом начале кухаркой. Его больше не беспокоят боли.
По сути, это еще одна история исцеления тела через дух, запретной любви двух одиночеств и полноты плотского наслаждения в духовном равновесии. Кроме того, из картины за ненадобностью практически полностью изъят уровень логоса, т.е. рационального мышления. Так, уже полностью объективная объемность внутреннего мира картины углубляется «мистическим», как бы сказал ранний Витгенштейн, измерением.

«Заброшенный»
Цай снова доказывает, что вне зависимости от того, в шлеме ли вы виртуальной реальности, в кинотеатре, или за компьютером – ощущение достоверности увиденного зависит от того, насколько режиссер задействует воображение зрителя.
Но возвращаясь к нашим призракам, остается пояснить роль телесного в фильме. Выразительность длинных планов в завораживающих интерьерах дома в джунглях в фильме, снятом для VR, самоочевидна – опять-таки Цай всегда умел увлечь мышление внутренним содержимым кадра. Главное же потрясение, которое доведется испытать зрителям «Заброшенного» – невозможность увидеть себя, собственные руки и собственное тело после того, как глаз тщательно изучает всех героев, многочисленные детали обстановки, а его ЦНС окончательно смирится с тем, что «реальность» подменили.
Все дело в том, что именно зритель и есть тот самый призрак, а человеческое субъективное восприятие, способное поставить вопрос о бытии, является невидимой эссенцией любого кинематографического произведения, влияющей на его ткань, на те закономерности, по которым оно живет. Ни один режиссер авторского или массового кинематографа не сможет найти экзорциста, способного изгнать субъекта из, казалось бы, такого внеличностного, иногда обобщенного, а иногда абстрактного визуального поля. Человек является связующим звеном во взаимодействии феноменов самих по себе и их преломленных и многократно измененных образов из коллективного (бес)сознательного.
Насколько последовательна эта трансгрессия, можно убедиться на своем опыте, зависая где-то между потолком комнаты, где сидит Ли Кан-шень, и дном пещеры, невозмутимо продолжающей это довольно обычное человеческое жилище. Таким образом, Цай нашел способ использовать и этот аспект VR-съемок. Сжатое пространство расширяется там, где находится невидимая граница между мирами (экран и человек, видимое и невидимое и т.д.). Так он погружает зрителя-призрака в Дао, которое, как известно, безгранично в своей вездесущности и одновременно помещается на вытянутой ладони.
Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев