5 ноября в рамках X Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» состоится грандиозный проект в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Евгений Никитин
Photo: Marco Borggreve
Впервые в Москве прозвучат два вокальных произведения английского композитора начала XX века Густава Холста — «Гимны Ригведы» для хора и одноактная опера «Савитри» на либретто самого автора по мотивам эпизода древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Публика также услышит мировую премьеру «Дивного действа» для хора и камерного оркестра Алины Подзоровой. Произведение написано специально для фестиваля на тексты из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина и Плач из фольклорного наследия Русского Севера под реакцией и по заказу продюсера фестиваля Елены Харакидзян.
В числе участников исполнения одноактной камерной оперы «Савитри» Г. Холста ведущий солист Мариинского театра, один из лучших вагнеровских бас-баритонов современности, Заслуженный артист России Евгений Никитин. Несмотря на то, что опера прозвучит в концертной версии, солисты будут одеты в стилизованные костюмы, отражающие характер трёх персонажей «Махабхараты».
С оперным певцом встретился корреспондент «Музыкальных сезонов», музыкальный журналист Виктор Александров.
Виктор Александров: Евгений, вы сразу согласились на предложение музыкального продюсера Елены Харакидзян поучаствовать в российской премьере оперы Холста?
Евгений Никитин: Елена меня долго уговаривала, но поначалу особого желания не было. Я не люблю учить новый материал, потому что довольно ленивый человек и последнее время очень тяжел на подъем. Стараюсь сидеть на накопленном багаже в последние годы, дотачивать сделанное. Елена все равно не отступала с предложением, я послушал материал, музыка мне неожиданно понравилась, и я согласился. К тому же, это моё первое участие в фестивале «Опера Априори», да и само событие по себе довольно знаковое.

Церемония вручения премии «Casta Diva». Елена Харакидзян и Евгений Никитин. Автор фото — Ира Полярная
В.А.: Сложно было войти в мир своего героя из «Махабхараты»? Как любовь в этой опере побеждает смерть?
Е.Н.: Я исполняю антагониста Яма — бога смерти. Густав Холст их существенно переработал, сократил, и адаптировал первоисточник и получилось лаконичное, получасовое произведение. Савитри, которую споет Ольга Толкмит, воплощает символ чистоты, целомудрия и любви, побеждающей смерть. Основная мысль в этом и заключена. Савитри любила Сатьявана, принца потерявшего семью и царство, и ее отец благословил их брак. Но пророк предсказал, что через год возлюбленный Савитри умрет. Она же не изменила своего решения. Сатьяван действительно умирает. Савитри сидела над бездыханным телом мужа, тогда снизошел с небес Яма — бог смерти и забрал его душу. Савитри была неотступна. И последовала за ним. Он сказал, что исполнит любое ее желание, кроме одного — не оживит Сатьявана, так как время его пришло. Первым ее желанием было, чтобы отец Сатьявана прозрел. Яма исполнил это желание, но она все равно шла за ним по раскаленной земле, тогда он посоветовал загадать ей второе желание и попросил, чтобы отцу Сатьявана вернули завоеванное царство. Яма исполнил и эту просьбу. Однако Савитри продолжала следовать за ним. Тогда он разрешил ей загадать третье желание. И та пожелала, чтобы у нее родилось 100 детей. Тогда Яма понял, что его обманули, и, подивившись целомудрию и благочестию женщины, в награду вернул ей жизнь мужа. Это такая фабула легенды. В опере же она предельно сжата.
В.А.: Холст не мог миновать искушений Вагнером? Мир богов, стихий и людей существует здесь тоже, как и в «Кольце Нибелунга».
Е.Н.: Холст, как и Вагнер, взял за основу эпос. Но я не уверен, что Холст похож на Вагнера в отношении музыкального языка. Он скорее от Вагнера отошел, так как писал свою оперу для камерного состава. У Вагнера всегда всего очень много — гигантский оркестр, большое обилие музыки. Здесь же, напротив все сведено к минимуму — камерный хор, три солиста плюс камерный оркестр. Холст пошел своей дорогой.

Евгений Никитин — Вотан. «Валькирия». Фото Михаила Вильчука (2024 г.) © Мариинский театр
В.А.: Английскую музыку вы не пели раньше?
Е.Н.: Пожалуй, нет. У нас в Мариинском театре идет постановка оперы «Поворот винта» Бриттена, но я в ней не участвовал пока, там много молодежи задействовано. На английском написано много барочной музыки — Гендель, Перселл, но это не моя специализация.
В.А.: А вообще интересовались театром Бриттена?
Е.Н.: Стараюсь заниматься профильными композиторами. Материала в голове столько, что если браться еще за оперы Бриттена, придется оттуда что-то нужное выкинуть. С новым материалом я стараюсь обращаться предельно аккуратно, учить стал дольше, не как 30 лет назад, когда за неделю мог подготовить произведения любой сложности.
В.А.: Вы сами считаете себя человеком какой эпохи? В какое время вам было жить интереснее?
Е.Н.: Мне нравится жить в своем времени, потому что в ту эпоху не было тех людей, которых я люблю и ценю — они мои современники. А то, что сегодня трудное время, так оно всегда было трудным. Во времена того же Вагнера воевали вообще без остановки в режиме нон-стоп.
В.А.: Если бы вам довелось встретиться с Вагнером, о чем бы его спросили?
Е.Н.: Я бы в первую очередь его спросил, за что он так ненавидел вокалистов (смеется)? Вокальные партии в его операх очень красивые, но для их исполнения требуется невероятная физическая сила и аналитический подход, вокальная стратегия и физическая форма. Исполнять бесконечные монологи на немецком наизусть нелегко, но Вагнер сочинял прекрасную музыку, ее звучание и есть та самая награда за труд.
В.А.: А в чем вы находите пересечения музыкального театра Вагнера с театром Римского-Корсакова?
Е.Н.: Вагнер подчинил музыку драме. Именно в этом и заключалась его реформа. А про какой-то отдельный музыкальный театр Римского-Корсакова я никогда не слышал. На мой взгляд, он был рядовым русским композитором, который творил рядом со всеми остальными.
В.А.: Вспомним мистерию «Парсифаль» Вагнера и «Сказание о невидимом граде Китеже и Февронии» Римского-Корсакова, спектакли, в которых вы пели.
Е.Н.: Вагнер назвал «Парсифаль» «божественной мистерией» по Вольфраму фон Эшенбаху. «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова основано на легенде XVIII века. У них похожие фабулы. Гришка Кутерьма и Парсифаль — божьи люди. Один – повеса, пьяница, второй – «чистый глупец» — оба становятся почти святыми. Одна и та же идея, хотя оперы совершенно о разных вещах. Поэтому, «Китеж» называют «русским Парсифалем». Не потому, что похожа музыка (она совершенно другая), а за идентичные смыслы.
В.А.: Оба композитора, как известно, придерживались системы лейтмотивов.
Е.Н.: Естественно. Систему лейтмотивов Вагнер откровенно эксплуатировал, для него это было основным принципом сочинения музыки. Каждый лейтмотив характеризовал какого-то персонажа и предмет или обстоятельства, все они вплетены в музыкальный гобелен и рисуют картину звуками. Римский-Корсаков тоже шел по этому пути. Вагнером были в то время вдохновлены практически все.
В.А.: Евгений, а как вы пришли к роли Демона?
Е.Н.: Роль сама ко мне пришла Сложное и достаточно тяжелое произведение. В вокальном смысле оно написано крайне неудобно. Рубинштейн был пианистом, мыслил сугубо инструментально. Музыка действительно очень красивая, но местами иногда несколько затянутая.
В.А.: Как постигали эту роль?
Е.Н.: Мне предложили поучаствовать в партии Демона, когда спектакль в Мариинском ставил Лев Додин. Над персонажами фактически мы работали сами, он следил за картинкой, отдав персонажей на откуп певцам. В конце концов, артисту необходимо доверять. Музыка сама сделает остальное. Рубинштейн прекрасно передал настроение поэмы Лермонтова.

Демон – Евгений Никитин. «Демон». Фото Михаила Вильчука (2023 г.) © Мариинский театр
В.А.: А за рубежом случались постановки «Демона»?
Е.Н.: За рубежом это и было — в парижском Шатле (в режиссуре Льва Додина). Потом мы ее привезли в Петербург, она выдержала несколько представлений и как-то неожиданно сошла с подмостков. Сейчас в театре идет новая постановка Елизаветы Корнеевой и Жанны Усачевой.
В.А.: Есть ли в партии Демона какие-то параллели с Голландцем?
Е.Н.: Да, и они очевидны. Оба мечущиеся натуры, романтические мизантропы, при этом бессмертные. Голландец, правда, в конце оперы всё- таки получает свое освобождение. Демон же остался висеть во времени и пространстве. «Голландец» лаконичнее написан, что довольно неожиданно, учитывая масштабы вагнеровских полотен. В нем время летит быстро, в «Демоне» же оно странно останавливается, создается реальное ощущение тянущейся бесконечности, в которой живет главный герой.
В.А.: Герои с мятущейся душой как-то импонируют вам?
Е.Н.: Мне удаются такие роли, но в жизни я совсем другой человек, гораздо легковеснее, по своей психофизике и голосовым данным я подхожу на эти партии. Но приходится играть и вживаться по-настоящему. Играть самого себя мне в этих ролях нельзя. Тут, конечно, приходит на помощь пресловутое актерское мастерство. Театр — это в любом случае обман. Играть любую роль, значит обманывать зрителя, а порой даже самого себя.
В.А.: Театр, да и сцена вообще, по сути, должна быть родным домом для артиста. У вас, наверное, Мариинский в этом плане номер один?
Е.Н.: В каждом театре есть свои минусы и плюсы. Мариинский — настоящий дом, где живет наша большая семья. Проблемы бывают — коллектив, разные люди, трения, кто-то тебя любит, кто-то нет, но в Мариинском за 30 лет прожита целая полноценная жизнь. Это то, что останется со мной навсегда.
В.А.: А на Западе?
Е.Н.: Там по струне ходить нужно, там артистами манипулируют, их просто муштруют, царит откровенная солдафонщина что в Европе, что в Америке. Как такое возможно, если вы репетируете с оркестром, а за вашей спиной постоянно находится представитель профсоюза. И когда время исчерпано, он вам указывает на секундомер и говорит: «Маэстро, репетиция закончена, сейчас перерыв». Я, если честно, не понимаю, как в таких условиях можно творить. Ты только поймал волну, настроение, что-то начало получаться, и вдруг тебя останавливают. Вся эта история больше напоминает какое-то производство, а не настоящий творческий процесс.
В.А.: Но, тем не менее, вы успеваете «выпрыгивать» из оперного мира сразу к себе в рок иногда, да? Как поживает ваша студия в Петербурге?
Е.Н.: Сейчас почти этим не занимаюсь. Мы с друзьями работаем в свободное от работы время, хотя по большому счету давно это никому не нужно. Невозможно заниматься двумя делами одновременно. Надо выбрать что-то одно. Рок давно умер. Уходит эпоха и уходят люди, которые ее создавали, как сказал мой друг после смерти Пола ди Анно. Поэтому рок остался только в наших сердцах. И то не в виде музыки — ее все знают наизусть, а как дух, стиль жизни и часть самого себя.
В.А.: Евгений, а как удается перестраиваться в разные стилевые регистры? Учитывая такой универсальный репертуар в Мариинке, сложно ли выходить из одной роли в другую?
Е.Н.: Это часть моей профессии — сегодня исполняю Дон Жуана, например, а через день Князя Игоря и потом Голландца. Это условия, которые предлагает любой репертуарный театр. Это непросто. Необходимо очень аккуратно относиться к выбору того, репертуара, периодически уметь говорить нет, чтобы партии были примерно одного плана и одной тесситуры. У меня репертуар довольно ограниченный. Я не исполняю всё подряд и считаю, что это опасно. Предпочитаю произведения, которые ложатся на голос, это еще и залог вокального долголетия.

Голландец — Евгений Никитин. «Летучий голландец». Фото — Наташи Разиной (2020) © Мариинский театр
В.А.: А российская музыка XX века — оперы Шостаковича и Прокофьева это ваш материал?
Е.Н.: «В Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича я пою Исправника, чисто гоголевский персонаж. Борис Тимофеевич это уже не мое. Поэтому, исполняю спокойно Исправника — роль проходящая, но очень яркая и смешная. Сцену в полицейском участке мы все очень любим. Оперный Прокофьев у меня тоже представлен, но не особенно широко: Ременюк в «Семёне Котко», Рупрехт в «Огненном ангеле», «Война и мир» — всего понемногу.
В.А.: Вокальными симфониями Шостаковича интересовались?
Е.Н.: Еще пока не дошли руки. Я думаю, что обязательно возьмусь. «Сто горячо влюблённых сном вековым уснули», честно, не мой материал, он для центрального баса, коим не являюсь. Это я про 14-ю симфонию. А 13-ю «Бабий Яр» можно было бы и посмотреть.
В.А.: Вполне.
Е.Н.: Да, у нас давно она не звучала в театре, да и ко мне пока не поступало предложений в ней поучаствовать, я бы взялся.
В.А.: Ну Валерий Гергиев рано или поздно предложит, вы столько лет с ним в одной команде.
Е.Н.: Он дал мне путевку в жизнь. Все, что у меня сегодня есть, благодаря тому, что меня взяли когда-то еще студентом в театр. Но время неумолимо летит вперед, а многого не сделано.
В.А.: Евгений, почему Мясковский, к чьему симфоническому творчеству вы неравнодушны, не писал опер?
Е.Н.: Я не знаю. Это чисто симфонический композитор. Вагнер ведь симфоний не писал.
В.А.: Ну одна ранняя у него все же есть.
Е.Н.: Да, но она малоизвестна. А у Мясковского их 27. Жаль, что у нас его музыку несколько игнорируют. Незаслуженно недооцененный композитор. У него действительно событийная музыка, в ней всё время что-то происходит, её интересно слушать, она не надоедает. Она для узкого круга ценителей.
В.А.: А в плейлисте что у вас еще есть?
Е.Н.: Да мало чего, самая лучшая музыка — это тишина. Уши должны отдыхать. Это главный инструмент любого музыканта.
В.А.: Вы вообще по своей натуре домашний человек, любите выезжать на гастроли?
Е.Н.: Я наездился по гастролям в свое время. Сейчас уже здоровье не позволяет летать на другие концы света. Постоянно жить на чемоданах это тяжело морально. В молодости, конечно, мы в этом купались и ждали с нетерпением очередные гастроли. Но всему свое время. Зимой у меня турне в Японии — участвую в спектаклях «Летучего Голландца» (возобновленная постановка 2012 года в Токийской национальной опере). Раньше я очень любил летать в Японию — хорошая страна, но очень далеко. А сейчас с учетом составных рейсов путешествие еще больше затянется. Перелеты по 20 часов разными самолетами я вообще считаю унижением. Поэтому, никуда особо и не рвусь.
В.А.: А какие еще любимые страны?
Е.Н.: В детстве мне было всё равно, куда меня везут, лишь бы уехать. Везде было интересно. Я набирался тогда жизненного опыта, и со временем осознал, что лучше всего дома.
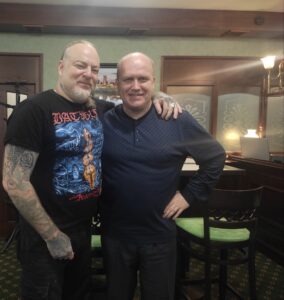
Евгений Никитин и Виктор Александров

Пока нет комментариев